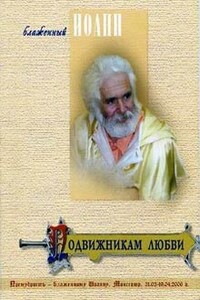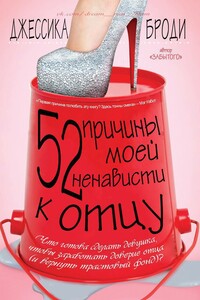Записки провинциального священника | страница 85
— Я подозреваю, что вы сами не из тех, у кого ровная и спокойная вера. Вы из другого племени — из богоборцев.
— Мой путь к Богу не был простым и ровным... Пожалуй, вы правы, Юрий Петрович.
— Выходит, и вас терзали, а возможно, и до сих пор терзают сомнения?
— Терзали, Юрий Петрович.
— Терзали, говорите... Это, видимо, и влечет к вам людей. Вы можете понять грешника, потому что сами падали... Вот только какую меру падения вы можете вместить и простить?
— Разве в моем прощении дело?
— Вы о Боге говорите... Но ведь чтобы просить Его о прощении, нужно веру иметь. А если ее нет? И таить в себе бремя вины нет сил?
— Юрий Петрович, если сознание вины гнетет вас и вы жаждете прощения, вера у вас есть, только вы сами еще не осознали этого, но осознаете, поверьте мне.
— Хорошо. Я все расскажу. И тогда вы скажете, может ли такой человек, как я, иметь веру и надежду на прощение.
Юрий Петрович вновь достал пачку и, нервно теребя вынутую сигарету, сказал:
— Нет, нет, курить я не буду. Так слушайте. Все началось, когда я учился в институте. Нет, пожалуй, раньше. С двадцатого съезда партии. Мне тогда было четырнадцать лет, и я был как все, то есть верил, что мы живем в лучшем из миров. Я знал, конечно, что хитрые и коварные враги стремились опорочить наш строй. Они заявляли, что мы живем в условиях рабства. «Ну какое же это рабство! — думал я, проходя по улицам Москвы. — Люди идут куда хотят, улыбаются, шутят. В магазинах, правда, не хватает товаров, живем мы впятером в пятнадцатиметровой комнате в деревянном бараке, без водопровода и канализации, но ведь мы еще не построили земного рая, то бишь коммунизма. Но обязательно построим!»
И вдруг как гром среди ясного неба! Великий Кормчий был, оказывается, самозванцем, наглым обманщиком, злодеем, а его ученики и сподвижники — бандитами с большой дороги и душегубами! Было от чего прийти в смущение.
Когда умер «великий вождь», я написал стихи, которые так и назывались — «На смерть Сталина». Что меня подвигло на это, не знаю. Никогда до и после стихов я не писал. Во всяком случае, никакого эмоционального потрясения я тогда не испытывал, хотя некоторые мои школьные учителя и соседи по дому плакали, думаю, вполне искренне. Стихи у меня получились на редкость дрянные — набор штампов из хрестоматий по советской литературе. Тем не менее их поместили в школьной стенной газете, и я с огромным удовольствием прочитал их на траурном митинге в школе. Со стихами все ясно — тут действовало мое запрограммированное сознание. Но этим моя реакция на смерть Кормчего не ограничилась. Она проявила себя и подсознательно, иррационально, загадочным и до сих пор не вполне понятным мне образом. Вместе с другими пионерами меня поставили в почетный караул около бюста вождя, что было воспринято мною как большая честь. Оказавшись перед бюстом и подняв руку для пионерского салюта, я попытался придать своему лицу подобающее для данного случая скорбное выражение. Но не тут-то было. Я почувствовал, что меня начинает душить смех, и, чем больше я стремился подавить его в себе, тем сильнее мне хотелось смеяться. Это была невыносимая мука. Я весь покрылся испариной. Нервы напряглись до предела, и я не выдержал — расхохотался безудержно, до слез. Трудно было понять: хохочу я или плачу. И это спасло меня. Все расценили мою реакцию как истерику, вызванную безутешным горем, — не я ли и стихи написал по этому поводу? Однако в том-то и дело, что никакого безутешного горя не было! К бюсту я подошел совершенно спокойно. А потом какой-то бесенок стал во мне посмеиваться и похохатывать, и каким-то внутренним чутьем я постиг, что за всем этим траурным ритуалом и всенародной скорбью скрывается наглая бесовская ухмылка.