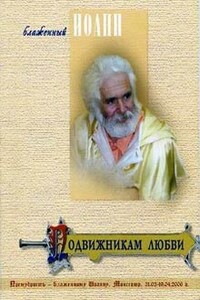Записки провинциального священника | страница 80
Истерзанный кошмарами преисподней, художник искал выхода, просвета, и он забрезжил ему в ушедшей, распятой Святой Руси. Три-четыре картины, стилизованные под иконопись, были посвящены поиску этого утерянного идеала. Но они-то как раз показались мне менее удачными, о чем я откровенно сказал Елагину. И он согласился со мной.
— Вы абсолютно правы, — медленно, с расстановкой произнес Арсений. — Идеал Святой Руси и Православие — это все, что у нас осталось. Но они органически несовместимы с нашей уродливой, испоганенной действительностью. Попытки привнести их в нее создают впечатление фальши.
Это и есть фальшь, кощунственный обман, святотатство... Искусство, пытающееся дать позитивный идеал, сейчас ни на что иное не способно. И вообще, мы живем в период разложения искусства. Оно не в состоянии ни передать всего ужаса действительности, ни противопоставить ей положительный идеал. Остается одно — выход за рамки искусства. Моей последней картиной будет полотно, измазанное дерьмом. Альтернативой же этой мерзости может быть не стилизация под иконопись, а икона, преодоление искусства и прорыв к Богу. Вот к чему я пришел, отец Иоанн. Вас, конечно, ужасает все, что вы видите здесь. — Он страдальчески скривился. — Я знаю, что прикосновение к святыне должно быть чистым. Не думаю, что смогу легко преодолеть свои пороки, если вообще смогу их преодолеть, но обещаю вам: мое прикосновение к святыне будет чистым. Елагин взял бутылку и вылил ее содержимое на пол.
— Неделю не пью. Налагаю на себя недельный пост. А через неделю прихожу к вам на исповедь.
Через семь дней Арсений Елагин был в храме. Он исповедался и причастился, а затем сразу же приступил к работе над иконами. Так же как и Коля, он решил писать их в храме. Они работали вместе, рядом, помогая друг другу советами, но работали в разных манерах. Коля ассоциировался у меня с Рублевым. В его иконах — спокойствие, уравновешенность, классическое совершенство. Елагин же своей экспрессивной манерой, беспокойными бликами напоминал скорее Феофана Грека. «Ему бы писать фрески, — думал я, — картины Страшного суда, они получились бы у него превосходно».
Я изучил западную стену храма. Росписей там не сохранилось. Место для Страшного суда было свободно. Без санкции Госнадзора я, однако, не мог приступить к росписи храма. О том, чтобы получить такую санкцию от товарища Блюмкина, нечего было и думать. Нужно было действовать через его голову, и мне не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к Адольфу Николаевичу. Я подробно описал ему все мои проблемы и, не рискуя доверять письмо почте, отправил его в Москву с одним из прихожан.