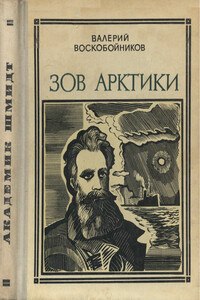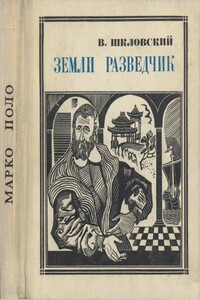За великое дело любви | страница 7
В самом деле, почему его причисляют к сословию крестьян? В Киеве, когда его там допрашивал жандарм, в протокол записали: крестьянин. А какой он крестьянин? Давно не ходит за скотом, как прежде, не пашет, не сеет, как отец, — он ткач. Он рабочий! Целых четыре года простаивал у ткацкого станка по 12 часов в сутки! Он рабочий, один из многих тысяч фабричных, и спасибо большое Юлии (в артели все зовут ее еще Юлей, Юленькой), спасибо ей за добрые слова о рабочих.
Тут словно что-то подбросило Яшу.
Он вскочил; кожушок, каким укрывался, накинул на худенькие плечи. Выбрался на ощупь в кухоньку, достал спички и скоро уже сидел у зажженной свечи.
Писать он умел, хотя и коряво, и сейчас выводил буквы на четвертушке бумаги так старательно, как никогда еще прежде.
В Тверскую губернию, на почтовую станцию Старицкого уезда, в деревню Казнаково, родителям моим Потаповым.
Родные, шлю низкий поклон и привет из знатного Питера с пожеланиями всем вам добра и счастья, а мне такового уже не видать. Покуда дойдет это письмо, наверное, я уже буду неведомо где, может, и вовсе за решеткой. Не стану описывать, почему да как, но ввиду насилия и ужаса нашей жизни под тяжким царским гнетом я готов умереть за народ и прошу, в случае чего обо мне не думайте. Не держите той мысли, что коли я пострадаю, то за себя, нет, я желаю видеть Россию вольной, и коли даже погибну, то не по вздорному какому-то неразумию и не из-за кривотолков, как отец считает, а потому, что рабочий человек должен твердо стоять за всех, за весь народ, и не дрейфить ни перед чем. А я рабочий и есть.
Прощайте, дорогие. Ваш сын Яков.
Его била дрожь, но скорее от волнения, чем от холода. Клочковатые волосы цвета мочала сбились на лоб и глаза. Верхние пуговицы косоворотки он расстегнул, так легче писалось и думалось. И, выводя свои строчки, Яша улыбался. Словно бы не прощальное письмо писал, а сочинял что-то озорное: мол, знай наших.
Кто готовится противостоять ударам судьбы, может потом и скиснуть. А скрепляя письмо собственноручной подписью, Яша как бы давал твердое слово о бесповоротной готовности все выдержать.
Немного еще подумав над письмом, Яша в конце, рядом со своим именем, поставил: «Сермяга». Такое у него было прозвище в детстве; так называли его и на фабрике Торнтона, так иногда в шутку называли его и в революционной среде. Он и в Киев ездил с паролем Сермяга…
Под подушкой у Яши лежала тоненькая книжка стихов Некрасова. Он сунул между страницами письмо и, успокоенный, снова улегся на жесткий тюфячок. И показалось Яше, не прошло и часа, как его разбудили.