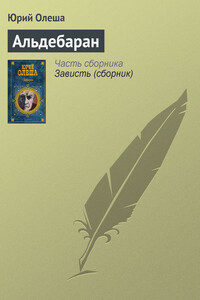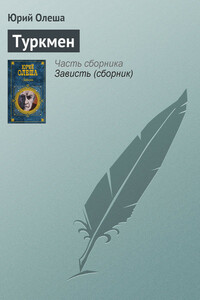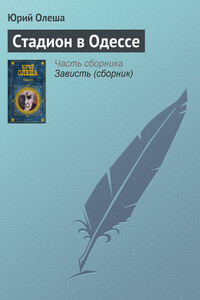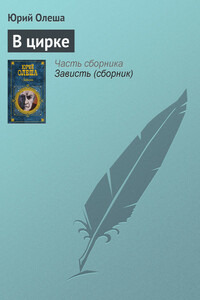Книга прощания | страница 7
Пробует начать писать дневник от чужого имени: «16 апреля 1934 года. Я — советский служащий. Сегодня я решил начать писать дневник. Моя фамилия Степанов…» Но «советского служащего» волнуют те же мысли, что и писателя Олешу, он пишет его языком, да и родился, оказывается, в том же году… Либо появляется некий Кондратьев, мечтающий еще раз увидеть бюст Корнеля в Пушкинском музее. Но переодевание в очередной раз не удается, Олеша возвращается к рассказу от первого лица.
Частые обращения к гипотетическому читателю в этих заметках — симптом прозы, признак адресации вовне. Олеша и не скрывает: это «дерзкая попытка написать роман в отрывках… даже в видениях»>[11].
Временами эти видения страшны.
Олеша возвращается со спектакля Мейерхольда «Командарм-2». В пьесе И. Сельвинского — гражданская война, стальная воля командарма Чуба, метания интеллигента Оконного, революционная «целесообразность», руководствуясь которой командарм отдает приказ расстрелять тифозных бойцов… И Олеша вспоминает смерть сестры, умершей от тифа в 1919 году, эмиграцию родителей, обрушившееся одиночество.
В неизвестных дневниках Олеши царят не метафора, краска, образ, как было бы привычным предположить, а ощущение задавленности, социального бессилия, внятного, пусть и наедине с самим собой, протеста. Неожиданно интонации Гоголя и Хармса пробиваются в этих строках.
Вот отрывки из дневников Д.Хармса:
«Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во всех смыслах. Расхлябанность видна даже в почерке…» «Я достиг огромного падения. Я потерял трудоспособность. Совершенно. Я живой труп. Отче Савва, я пал. Помоги мне подняться». «Я ни о чем не могу думать… Ощущение полного развала. Тело дряблое, живот торчит. Желудок расстроен, голос хриплый. Страшная рассеянность и неврастения. Ничто меня не интересует… Нужно работать, а я ничего не делаю, совершенно ничего. И не могу ничего делать»>[12].
А вот — из олешинских записей:
«Вот так дойдет и до конца. Человек не может направить ни одного шажочка своей жизни. Все предсказано, все идет само, подчиненное воле Бога.
Я хочу, чтобы те, кто будет читать эту книгу, знали, что пишет ее человек-животное, человек…
Я не знаю, где я родился. Я нигде не родился. Я вообще не родился. Я не я. Я не не. Не я не. Не, не, не. Я не родился в таком-то году. Не в году. Году в не. Годунов. Я не Годунов».
В болезненных самоописаниях Олеши сквозит невроз эпохи. Это не просто детские страхи, заявляющие о себе в не менее страшной взрослой жизни. Нервные расстройства, почти безумие, Мандельштама, Зощенко и Булгакова, знаки распада сознания в вещах Хармса, Олейникова и прочих обэриутов, — по-видимому, связаны не столько с личными, «отдельными» душевными травмами каждого из них, сколько с всеобъемлющим ужасом тридцатых, да и двух последующих десятилетий.