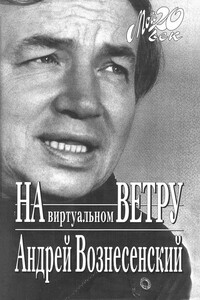Книга прощания | страница 6
«Резкое недовольство Олеши своей литературной судьбой, крушение его длительных попыток создать что-нибудь новое привели Олешу в состояние отчаяния. Он теперь является, пожалуй, наиболее ярким представителем богемной части дезориентированных, отчаявшихся литераторов… Его беспрестанная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели вроде Олеши должны прозябать, скандалить так, как это делал он. Скандалы следовали непрерывно друг за другом. В этом отношении Олеша шел в некоторой степени по следам Есенина. На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: “Вы украли мои деньги! Вы пользуетесь моими деньгами, вы крадете мой успех, вы отбиваете у меня читателей. Я требую одного — чтобы мне было дано право на отчаяние!”»[8]. Это — из протоколов допроса Бабеля.
Проходил писатель и по делу опального Мейерхольда.
Достаточно лишь посмотреть на даты смерти знакомых и близких Олеше людей, чтобы ощутить частоту гибельного гребня, которым прочесывали окружавших. Олеша ходил по краю бездны, в которой то и дело исчезали люди. По-видимому, то, что писатель все-таки оставался на свободе, было делом случая.
Между тем после появления известной книги А.Белинкова, жестко названной «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», за писателем закрепилась репутация испуганного капитулянта, отступника от вечных ценностей, предателя идеалов. Причем отступившего будто бы вне реальной опасности, без веских причин. О доносах на Олешу Белинков, возможно, не подозревал, не догадывался, в чем именно обвиняли его в 1930-е годы.
Немногие знали, что Олеша бесстрашно хлопотал за осужденную сестру свой жены и вдову друга — поэта Эдуарда Багрицкого. Об этом сохранилась запись в дневнике сына поэта, Всеволода Багрицкого, подготовленном к печати матерью, Л.Г. Багрицкой, и подругой его юности Еленой Боннэр[9].
Немногие помнили красноречивую овацию, которой встретил писателя в конце 1930-х студенческий зал на вечере в МГУ, посвященном памяти Багрицкого. Студентов не обвинишь в излишнем сервилизме.
Но в России забывают быстро.
«Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий. А если настоящий замолчал — погибнет»>[10], — с редкой ясностью понимания формулировал в письме к Сталину Михаил Булгаков.
Настоящий писатель Юрий Олеша выжил. Его спасали строчки, которые он продолжал писать на разрозненных листках бумаги. Мысли, мучившие писателя, которые не могли быть обнародованы в «легальных» формах — монологах героев драмы, авторской прозе, — выплескивались на страницы дневников. Он ведет их, пусть не систематически, урывками, но все-таки ведет, прекрасно понимая, что время для письменных откровенностей плохое. Так, 7 мая 1930 года записывает: «…нет абсолютно честных дневников… Всегда есть опасение, что дневник может быть прочитан кем-либо. Ловчатся. Шифруют. Мало ли что, ведь и обыск может быть».