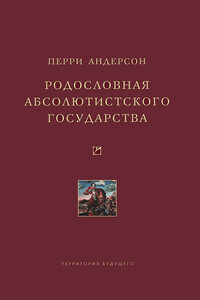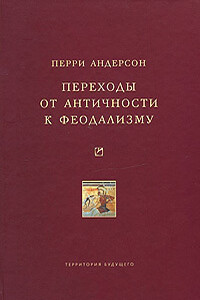Истоки постмодерна | страница 80
Именно этот эндемический дисбаланс внутри постмодерна всплывает в размышлениях даже самых серьезных и основательных его комментаторов. Последняя глава «Возвращения реального» имеет меланхолическое название «Что бы ни случилось с постмодернизмом?» — в том смысле, что те практики и теории, сторонником которых являлся автор, теперь уже воспринимаются как обломки, вынесенные на берег времени несущимся вперед потоком медиа>25. Уоллен, осмотрев выставку, проведенную в 1997 г. Академией, обнаружил, что в момент своего триумфа искусство инсталляции все больше стандартизуется, а проблески инноваций неожиданно возвращают себе живопись в двусмысленном поединке со своим новым окружением (или: «Трения, ощущаемые в мире искусства между наследием утраченного модерна и восходящей культурой спектакля, теми преобразованными и торжествующими силами всего того, что Клемент Гринберг осудил как китч. Рождается новый мировой порядок, и мир искусства не может отделить себя от него»). В этой сложной ситуации современное искусство движимо двумя импульсами: с одной стороны, желанием «произвести переоценку традиции модерна, произвести реинкорпорирование его элементов в новую культуру постмодерна в качестве корректирующих ее», с другой стороны, стремлением «броситься вниз головой в новый соблазнительный мир популярности, коммерческого успеха и сенсационности»>26. «Эти пути, — заключает Фостер, — несовместимы. Но природа вещей такова, что нет почти никаких сомнений, какому из них следует большинство».
Модуляции
Содержат ли сочинения Джеймисона о постмодерне указания на некую подобную эволюцию, расставляют ли они подобные акценты? Сходные мотивы, безусловно, присутствуют в его исследовании Адорно, которое может быть прочитано не только в соответствии со своим названием — «Поздний марксизм», но и как возрождение, в духе замечания Уоллена, диалектического наследия модерна. Джеймисон ясно высказывается по этому вопросу: «Модернизм Адорно исключает ассимиляцию со случайно-свободной игрой постмодернистской текстуальности, что равнозначно тому, что определенное понятие истины все еще сохраняется в этих вербальных или формальных материях», а его собственный пример сохраняет провокативность модерна в ее лучшем виде. «Диалектика просвещения» (каковы бы ни были ее недостатки) с ее безжалостным исследованием Голливуда напоминает нам, что «сегодня, когда триумф наиболее утопичных теорий массовой культуры кажется окончательным и практически бесповоротным, нам, вероятно, требуются коррективы в виде некоей новой теории манипуляции и собственно постмодернистского превращения [всего] в товар»