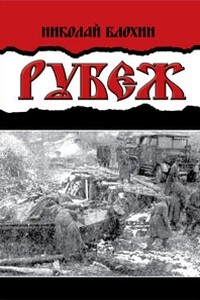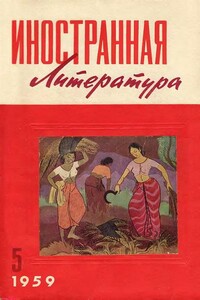Царское дело | страница 42
Так-таки и не сорвали их потом, хотя храм, естественно, закрыли. Кран то занят был, то барахлил, то идеовождь приболел (а потом и вовсе умер, с идеологическим почетом и похоронен со звездой на могиле). В общем, притускнела как -то рьяность идеологическая у местного начальства насчет крестов, так и остались они и потом, через тридцать лет, когда вновь открывали храм Рождества в Рождественке (в Рождество и открывали) – подкрашенные и подновленные сияли они на солнце.
Совсем уже состарившийся, седой и сгорбленный Яша в день открытия стоял чуть поодаль от храма и смотрел не на кресты, а на стену чуть ниже основания малого купола, что слева от барельефной надвратной иконы. Там виднелся (если вглядеться) пучок сухой серо-желтой травы, который обязательно зазеленеет к лету, пучок, разросшийся от засушенного кусочка травки без корня, что воткнул он меж двух кирпичей, когда реставрировали храм, кусочек, который прошел с ним все зоны и пересылки, много раз едва не конфискованный, ибо кумовья и режимники принимали его за наркотик, и занявший, наконец, свое неизбежное место на случай спасения еще одного рьяного закрывателя.
Царское дело
Тяжко умирал Грозный Царь Иван Васильевич. Страшный грех сыноубийства так и не отпустил. Бог, Который все прощает, когда каешься, простил, но разве возможно забыть то, как твой посох (Царский посох!) в порыве очередной вспышки безудержного бешенства летит острием в висок сыну твоему, кровиночки твоей, наследнику не только семьи твоей, но наследнику Престола государства Российского... Метался, рыдал, каялся, опять метался почти до умопомешательства – не вернешь сына. Сына Феодора, теперь наследника, Грозный Царь Иван считал неспособным царствовать. Вздыхал, глядя на него и говорил:
– Тебе бы, Федя, пономарем быть, а не царем.
Кроткий и набожный царевич любил сам звонить в колокола, созывая москвичей на церковную службу. И улыбался при этом всегдашней своей блаженной улыбкой. Больше всего на свете любил молиться и стоять в храме на службе. В Великий пост в Чудовом монастыре выстаивал до конца самые тяжелые для стояния длинные богослужения, когда и опытные монахи изнемогали. Никогда не садился даже во время тех чтений, когда разрешено было, когда все монахи садились. И та же кроткая улыбка пребывала на его губах. Иногда только всплакивал и произносил тихо:
– Боже, милостив буди мне, грешному...
"Смиренно-блаженный", – так его называли бояре. И еще по-всячески искали в нем что-нибудь унижающее. И находили: "нетвердая походка", "опухлое лицо", – и прочее всякое такое же внешнее, числом во множестве, и, наконец, все сходились во мнении: не склонен заниматься государственными делами. Правда, все отмечали, что: естеством кроток, мног в милостях ко всем и непорочен.