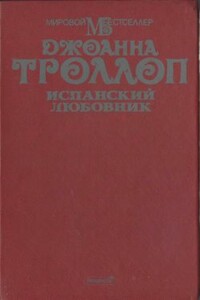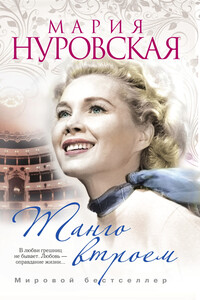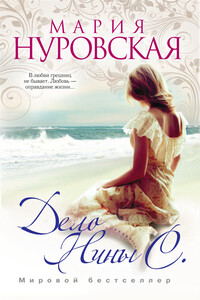Другой жизни не будет | страница 51
— Видишь, какая симпатичная, — говорю Стефанку. — Не захотел в Варшаву заехать, может быть, там бы и познакомился с кем.
— Зачем, чтобы она мне сшила повязку и послала на баррикады? Спасибо, я человек мирный и люблю жизнь.
Мы были у врача, Стефанек меня привез к какому-то профессору. Давление у меня так подскакивает, что неизвестно, чем это кончится. Хоть бы ничего не случилось до смерти, чтобы не лежать мне пластом, не ведая про Божий свет, вот тогда бы обузой я для своего сына стала. Нет, смерти я не боюсь, только эти мысли меня пугают. Профессор долго думал, исследования просматривал, а потом как ни объяснял, я мало что поняла. С чужими у меня тяжко разговор идет. Стефанек сердится и говорит, дескать, я специально не хотела языку учиться. А то, что я людей заставляла медленно говорить со мной, это тоже назло. Не назло, сынок, такая судьба. Слышала, что имя, которым меня назвали, несчастливое, видать, правда. Ты, мама, в ерунду веришь, отвечает. И ничего мне не дает делать по дому. Из рук вырывает — то тяжело, то нельзя. Никаких усилий. Детка, ты уж за меня не бойся, заботься о своих делах. Будет то, что мне свыше предписано.
Раз пришла девушка, но так быстро говорила, что я ничего не поняла. Симпатичное личико, глаза, как изумруды. В джинсах, ноги длинные, села прямо на пол комнаты. Это твоя симпатия, спрашиваю, после того как ее Стефанек к машине проводил. Усмехнулся: это моя студентка. Правда, Стефанек уже других учит, хоть такой молодой. Взбирается мой сын по лестнице, а для меня она слишком высока, чтобы за ним уследить. Уже по телевидению выступает. Беседа с ним была о книжке, которую написал. История университетов в России до 1905 года. Два раза в Советский Союз ездил, в архивах копался. Я спрашивала, как там все выглядит, интересно мне, ведь это близко к Польше, только через границу. Так он говорит, ну, в декабре апельсинов не купишь, нужно на Кавказ за ними ехать. Как оттуда вернулся, то тоже беседу по телевизору вел, но столько тут этих каналов, что я все перепутала и прошляпила. Ты, мама, тут не хочешь жить, злился сын, и зачем ты все время назад оглядываешься? На этого отца-идиота. У меня аж темно в глазах от его речей. Об отце так нельзя, отец это… Он такой был умный. Когда говорить начинал, все слушали. Как мысли свои выразить мог. А тоже молодой был. В двадцать четыре года воеводой стал. Ты знаешь, сын, что это была за власть? Он скривился от моих слов. Этот мир уже не существует, говорит, теперь ценности совершенно другие. Какое теперь имеет значение то, что он протирал задом кресла, обитые кожей. Мне сразу кожаный диван припомнился, тот, из кабинета Стефана, и как у меня только щеки не запылали. Страшно стало, что сын мои мысли прочтет. Он такой способный. Сестра Галины надивиться не может, что мальчонка, которого она мороженым угощала, так в люди выбился. Они с Казиком оба им очень гордятся. А я? Для меня он — сын Стефана. Наверное, из-за этого он так зол на отца. Он от меня хочет чего-то большего, а я ему этого не могу дать. Может быть, сын и прав, что я живу, все время оглядываясь назад.