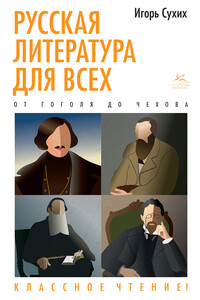Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 12
“Один издатель как-то сказал мне, что у каждого писателя где-то внутри оттиснута определенная цифра, точнее, число страниц, которое он не превысит ни в одной книге. Мое число, помнится, было 385. Чехов никогда бы не смог написать настоящий длинный роман — он был спринтером, а не стайером. Он словно не умел подолгу удерживать в фокусе узор жизни, который повсюду выхватывал его гений; он мог сохранять его живую прелесть ровно столько, сколько требуется для рассказа, но не мог сохранить детальность, необходимую для длинного и развернутого повествования” (Набоков).
С подобной точкой зрения будет полемизировать В. Б. Шкловский, указывающий на иные — именно сюжетные! — принципы связи чеховского большого жанра: “Сюжет, основанный на случайности, на занимательном происшествии, Чехов отвергал. Литературовед М. А. Рыбникова писала по поводу повести А. Чехова „Мужики“… <далее следует цитата. – И. С.> Все это, конечно, неправильно. Чехов не собирался и не думал писать такую повесть, в которой каждый момент немедленно получал бы сюжетную развязку. Этого не найдем мы ни в „Мужиках“, ни в „Степи“. Недоумение Рыбниковой принадлежит не ей одной. Рассказы Чехова казались несвязными и критику Змиеву (Булгакову), и Н. Михайловскому. Но у Чехова несвязанность элементов повествования только кажущаяся. Действие не должно у него происходить в одной семье, при помощи анализа деталей он охватывает сюжетной канвой всю широко написанную картину”.
Статья А. Г. Горнфельда, теоретика, переводчика, критика психологической школы, ученика А. Потебни, работавшего когда-то в журнале “Русское богатство” вместе с Михайловским, в отличие от рыбниковской, строится на полемике с той, уже давней, эпохой.
С исторической дистанции критик спорит со своим журнальным соратником о случайности тем и композиционной несобранности сюжетов чеховских рассказов.
“В „Палате № 6“ мы опять имеем бусы, да еще путаные” (Михайловский).
“Рассказ Чехова стоит перед нами — последовательный и цельный: его отдельные бусы, нимало не путаные, сомкнулись в законченное художественное создание” (Горнфельд).
Путь Чехова критик видит как движение от ранних финалов-неожиданностей, крутых и окончательных развязок, — к поздним финалам-размышлениям, ничтожеству всякого действия, всякого движения пред лицом спокойного течения жизни.
“Кончился рассказ Чехова, и мы расстаемся с его героем, чтобы сохранить в памяти его судьбу и его облик. В каком виде мы оставляем его, за каким делом? Всегда за одним: он думает. Думает тихо, без действий, без больших решений, обреченно, тоскливо, напряженно. Сложив руки, вернее, опустив руки, он думает. Самое слово это — излюбленное слово последней страницы, последних строк Чехова”.