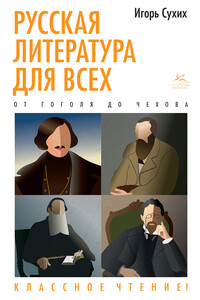Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 11
Однако интерес к тому, как сделано, возник задолго до формального метода и в двадцатые годы вовсе не сводился к нему. Л. Я. Гинзбург вспоминает забавную реплику одного из членов чиновничьей комиссии, проверявшей Государственный институт истории искусств, цитадель формализма. Узнав, что в институте существует и литературный отдел, член спрашивает: “Ага, припоминаю, — это те самые, которые изучают литературу как художественное произведение?”20
Работу по изучению литературы как художественного произведения — чеховской поэтики — отчасти проделали другие, иногда весьма неожиданные люди:
М. А. Рыбникова (в будущем — известный школьный методист) интересовалась развитием действия в чеховском рассказе и повести.
Исследовательница рассматривает трансформацию чеховского малого жанра от рассказа-анекдота к лирическому рассказу, “стихотворению в прозе” и новелле. Однако вне этой типологии остаются как ранние “мелочишки” (скажем, “Жалобная книга”) и большие вещи (вроде “Цветов запоздалых”), так и поздние рассказы (“Ионыч” или “На подводе”). Намеченная типология растворяется во множестве жанрово не определенных исследовательницей текстов.
Обращаясь к большому чеховскому жанру (впрочем, Рыбникова с него начинает) и опираясь на чеховские автохарактеристики и критические суждения, автор статьи фактически повторяет оценки современников, не пытаясь их аналитически проверить. “Где в „Степи“ то, что зовется сюжетом? <…> В повести имеется весьма характерная для Чехова хронологическая канва, начало которой — „поехали“ и конец которой — „приехали“. Этого нельзя назвать завязкой и развязкой действия, ибо действия нет”. — “Но действий нет, и опять, как и в „Степи“, можно без ущерба для целого переставить порядок глав. В „Мужиках“ нет устремления к концу, к развязке, ибо нет и завязки; начало чисто внешнее”.
Формалистское различение между сюжетом и фабулой для исследовательницы еще не существует. Не возникает и вопрос, требующий перехода с внешней, критической, на внутреннюю, аналитическую, точку зрения: если сюжета нет, на чем же строятся не только “Степь” и “Мужики”, но и больше десятка больших вещей позднего Чехова? Доверчивая оценочность заменяет в этом случае научную спецификацию. Впрочем, оценочный подход к большой чеховской форме (не владел, не умел) сохранялся в силе еще десятилетия.
“…Ему не давалась техника романа, он не владел формой большого повествовательного целого, как и другие его современники, — т. е. литературная школа конца XIX в.” (Рыбникова).