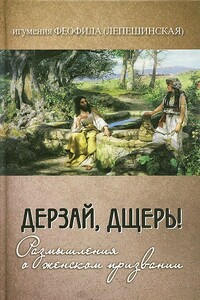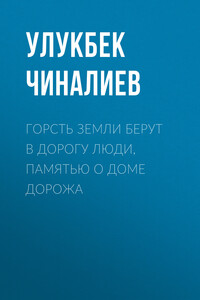Плач третьей птицы | страница 9
Ведал кое-что по нашей теме и Чехов, упоминавший «предлинновенные душеспасительные разговоры, которые так любят праздные и скучающие монахи». В рассказе «Святою ночью» помещено вполне грамотное руководство к составлению акафистов, принадлежащее любителю этого занятия, иеродиакону, умершему на Пасху. Рассказ «Убийство», о неразумном подвижнике, с детства приверженном к леригии, хоть в «Добротолюбие» помещай: «весь пост не разрешал себе масла отнюдь, а в среду и пятницу вовсе ничего не вкушал… вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну и вериги тоже»… А в «Барыне» задета животрепещущая ныне тема скользких взаимоотношений со спонсорами, которых тогда именовали менее неприязненно – благодетелями.
И у Бунина есть любопытный персонаж в рассказе «Чистый понедельник»: она, красавица восточного типа, завораживает кавалера роскошными туалетами и эксцентричными выходками в декадентском стиле серебряного века; задумчиво молчит, изъясняется загадками; наконец, в последний день масленицы, после изысканного обеда в шикарном ресторане, совершает запланированное падение, а утром исчезает… оказывается, в монастырь; в том вроде и состояла тайна её. Для тонкого мастера, каков Бунин, столь пошлый по ложности мотивировок вымысел можно объяснить лишь отсутствием всякого понятия о путях и поводах к монашеству.
Гоголь, как известно, хотел стать монахом; Розанов считал его вполне вообразимым в монашестве, как Лермонтова, Достоевского и, с оговорками, Л. Толстого; подобная мысль не чужда была и солнцу русской поэзии:
Просто христианство
…Вы презрели и умалили пустыню.
Пустыня не в отдаленных тропиках,
Пустыня не за углом,
Пустыня притиснута к вам в вагоне метро,
Пустыня в сердце вашего брата…
Т.С. Элиот[24].
Существует мнение, что монашество есть просто христианство[25], просто осуществление евангельских идей: девства, нищеты и обособленного жительства, неважно в монастыре или в миру, т. е. спастись можно и даже предпочтительнее, ввиду гибельности современных обителей[26], в миру, но при одном условии: жить как монах. В рамках этой концепции мирской вариант, брак и семья, признается образом жизни ветхозаветным, т.е. низшим, облегченным в сравнении с новозаветным – монашеским. Так считал, например, святитель Григорий Богослов: «возможны два состояния: супружество и непорочность, и одно выше и богоподобнее, но труднее и опаснее, а другое ниже, но безопаснее»