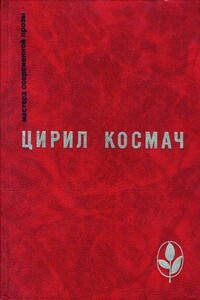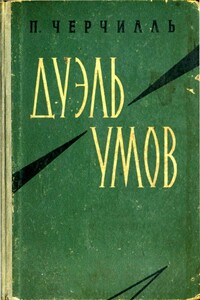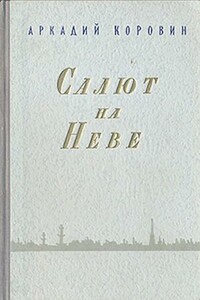Весенний день | страница 24
С каким-то злорадным удовольствием я слушаю раскрасневшегося генерала и восхищаюсь той дипломатической невозмутимостью, которой он прикрывает свое имперское пренебрежение и уязвленность солдата, которого обставили эти балканские пастухи и их полководцы, не протиравшие брюк на скамьях военных академий. Я записываю себе на память звонкие, но пустые слова его спича.
Он суетливо воздает хвалу нашей борьбе, нашим победам, в особенности же — нашему презрению к смерти, столь свойственному всем молодым нациям.
— Спасибо. Понятно, — бормочу я. — Хотите сказать: всем примитивным, некультурным нациям.
— Хм? — вопросительно мычит мой приятель, косясь на меня недовольным взглядом.
— Ничего, ничего, — машу я рукой и напряженно вслушиваюсь в речь генерала, который начал что-то декламировать. Что бы это могло быть? Он цитирует Теннисона.
— Hear! Hear![5] — бормочу я уже громче.
— Хм? — снова вопросительно мычит приятель и ощетинивается.
— Ничего, ничего, — успокаиваю его я. — Генерал произнес несколько строк из баллады Теннисона, в которой воспевается доблестная смерть шестисот солдат в Крымской войне. А мне в этот момент вспомнилось, что у нас погибло миллион шестьсот тысяч человек.
— Хм! — кивает головой приятель без особого, впрочем, интереса, не подняв даже глаз от тарелки. Он спокойно отрезает кусок мяса, кладет его в рот и начинает жевать, неторопливо нанизывая при этом на вилку листья салага. Но вдруг поворачивается ко мне, широко раскрыв глаза. Видимо, он что-то вспомнил — дожевывает торопливо, а глазами делает мне знак: сейчас мол, что-то скажу. И наконец сообщает самым обыденным тоном — Да, знаешь, твоего отца тоже убили, — и запихивает в рот целый пук салата.
— Что?!
Приятель не отвечает. Даже не глядит на меня. Голова склонилась к самой тарелке, покачиваясь в такт жадно работающим беззубым челюстям.
— Когда? — спрашиваю я и сам удивляюсь своему самообладанию.
Приятель наконец проглатывает салат, тыльной стороной богатырской ладони вытирает мокрый подбородок, принимается разрезать отбивную и спокойно сообщает со свойственной ему точностью:
— Девятнадцатого апреля. Во время вечерней переклички. Деревянным башмаком по голове.
И он взмахивает рукой, в которой держит нож.
В ушах у меня начинает шуметь, и весь зал заливает какая-то странная, глухая тишина. Я выдавливаю из себя:
— Кто его убил?
— Штейнер, — отвечает приятель, не глядя на меня. Потом широко открывает рот и кладет в него кусок мяса.