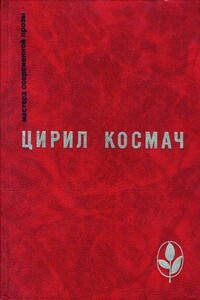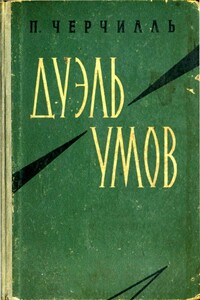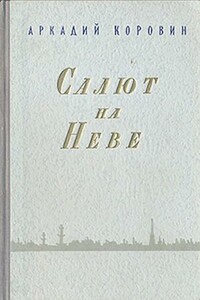Весенний день | страница 23
Пожилой, костистый британский генерал, постучав перстнем по бокалу, встает. Все стихает. Мы с любопытством настораживаемся. Только мой приятель, сидящий рядом со мной, не подымает головы, продолжая жадно есть, брякая ножом и вилкой по тарелке. Всего полчаса назад его привезли из Целовца. Два года он пробыл в Дахау, Бухенвальде и Маутхаузене, и партизаны, прорвавшиеся в Каринтию, примчались за ним, на машине привезли его в Любляну и привели прямо в этот зал, на банкет, который уже начался. На нем была еще лагерная одежда с номером на куртке. Мы повскакали из-за стола и радостно пожимали его руку. На его землистом лице не было улыбки, в глазах — ни искорки радости. С отсутствующим видом подавал он руку, которая и всегда была крупной, а теперь, отекшая, стала еще больше и плохо гнулась. При каждом рукопожатии бормотал что-то невнятное и от слишком яркого света то и дело щурил свои глубоко посаженные глаза. Короче говоря, вел себя так, будто его пробудили посреди глубокого сна и теперь толкали от одного незнакомца к другому. Как бы то ни было, после двух страшных лет он снова встретился со своими приятелями, политическими соратниками, друзьями по литературе. Посадили его рядом со мной. Мы были старинными приятелями, но он только хмуро кивнул мне и сразу же взялся за нож и вилку.
— Ну, теперь будешь писать, а? — спросил я, положив руку на его широкое плечо.
— Не буду! — отрывисто буркнул он и стряхнул с себя мою руку.
— Да нет, я не думаю, что ты так сразу и начнешь писать. Когда придешь в себя.
— Я уже давно пришел в себя. Понятно? И потому могу тебе сказать: если ты думаешь, что человек — это человек, ты горько заблуждаешься! Человек, пока у него есть когти и зубы, — это зверь, а когда их больше нет — тупое и грязное животное. Понятно?
Он был силач, и ему нередко случалось сказать или даже написать нечто грубое, даже отталкивающее. Эти его слова меня, вопреки всему, глубоко тронули. Я вгляделся в него, а он только пробурчал что-то вроде «что думал, то сказал» и опять занялся едой. Ел он торопливо, но не с наслаждением, а с жадностью, как ест изголодавшееся животное. Само торжество его нисколько не интересовало. Лишь изредка он подымал голову и смотрел на сияющие хрустальные люстры, мигая маленькими, водянистыми, глубоко сидящими глазами. Потом раздавалось недовольное бурчание, и голова его снова опускалась. Он набивал рот едой, и челюсти принимались с хрустом перемалывать ее. Я уже не поворачивался к нему, мне было тяжело и грустно. И когда генерал постучал по бокалу и встал, чтобы ответить на тост, с души у меня точно камень свалился.