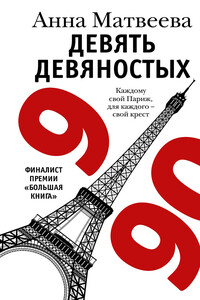На картине | страница 7
Александр нежно держал картину, обнимая раму, как живые и теплые плечи.
— Копылов-Масальский, — сказал он. — Настоящий Копылов, осознаешь, как нам повезло?
Кирилл Копылов-Масальский был художником такого калибра, что восхищаться им следовало вне зависимости от того, что именно он “накрасил”.
— Старик, я тут накрасил картинку, — небрежно ронял мэтр, и старик, будь ему даже двадцать лет от роду, начинал восторженно кивать головой. Критику Копылов не воспринимал в принципе, а чужие успехи были для него словно отравленные стрелы.
— А! А! — страдал Копылов, морщась и слушая, как хвалят других. На совместных пресс-конференциях он всегда говорил: — Если ко мне нет вопросов, тогда я пошел.
И громко двигал стулом — чтобы ножка проскребла по полу, как звуковой сигнал последней возможности.
Копылов-Масальский ревновал славу ко всем, даже к Ренуару и Леонардо да Винчи, но в атмосфере искусственного почитания и обожествления талант (а он у него, несомненно, был) художника поник и увял, как цветок, подаренный не от чистого сердца. Тяжелее всего приходилось ему в последние годы, когда над миром взошла слава Анны Венецианян. Эта живописица всякий раз тупила глазки и признавалась, что ее мазня не идет ни в какое сравнение с картинками, которые накрасил Копылов. Что он — истинный Мастер, а она годится только для того, чтобы омывать ему кисти и ноги (насчет ног и кистей не знаю, но в мастерской у него Венецианян одно время совершенно точно мыла полы. Не исключено, что собственными юбками, — они всегда выглядели так, словно ими что-то вымыли. Причем не раз). Что он — это наше все, а она — ничье Ничто. Все попытки подхвалить художницу обращались в истерику — Анна кричала и билась, доказывая собственную беспомощность.
— Сжечь, сжечь эту картину! Я бездарность! Я недостойна даже докуривать за Копыловым!
Картины у Венецианян были изумительные. Странно, что она этого не понимала. Изумительные они были и в переносном, и в прямом смысле слова — актуальном для меня — “выживший из ума”. Образованная Гера Борисовна однажды провела прямую параллель между Анной Венецианян и Эрнестом Хемингуэем. Хемингуэй никогда не верил чужим похвалам — даже если от друзей. А еще у него была пейрафобия, боязнь публичных выступлений, — и это тоже про Анну. Надо было очень не любить в детстве маленькую девочку, чтобы из нее выросло такое мучительное создание.
— Так не пишите, раз бездарность, — резонно сказал ей однажды Арчибальд Самойлов, хмуря брови. Брови у него были такого же размера и разреза, как глаза. По две темные полосы, одна под другой, — не человек, тигр.