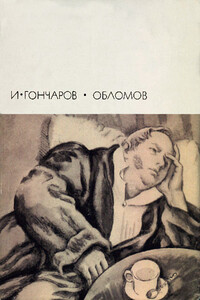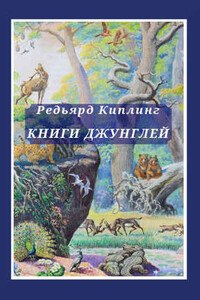Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь; Стихотворения. Рассказы | страница 14
У Киплинга баловню-выродку претензии предъявляет сознающая себя сила, другого закала, другого поколения. Если в исповеди Уайльда из двоих старший говорил о себе, в сущности, то же, что им было сказано о младшем — «все дано», то Сэр Антони Глостер (он же произносит «возвернул» и затрудняется выговорить мудреное название привилегированной школы, где учился сын) взял от жизни своими руками все, что ему было нужно.
За счет опыта, почерпнутого на окраинах империи, Киплинг вроде бы нашел ту позицию, которой у «блистательного Оскара» не было, так что, пользуясь «туго натянутым канатом» острословия, тот вынужден был гарцевать, балансировать над толпой и «пировать с пантерами» ради проверки устойчивости истин своей среды. Киплинг, если уж на то пошло, видел пантер реальных, во всяком случае, совсем не далеко был от них, ото всех невыдуманных опасностей, на передовом, хотя и от столицы далеком, крае борьбы за благополучие, достающееся Дикки и Бози. Двадцатитрехлетний работник провинциальной газеты с уверенностью власть имущего вторгся в столичный литературный мир; сам волшебник Стивенсон, прочитав Киплинга, произнес — «гм-гм»; он сказал о нем так: «Наиболее сильное из молодых дарований, появившихся с тех пор, как — гм-гм — появился я». Бывали ранние подъемы и расцветы, но этот новичок обладал особенностью, редкой даже для большого дарования, — сразу заговорил как человек зрелый.
Он говорил не столько даже от своего лица и равных себе по возрасту. Он говорил — и убедительно говорил — от лица солдат-ветеранов, бывалых офицеров, тертых колониальных чиновников, которые где-то там трудились и умирали на «благо Империи». «Что знают англичане об Англии, если они знают одну только Англию?» — спрашивал он, прямо намекая на далекие источники английского процветания, довольно грубо намекая, по-солдатски грубо, и — к нему прислушались. После того как Уайльд позволил себе что-то там высокомерно сказать в связи с Киплингом о вульгарности «англичан индусского происхождения», ему пришлось объясняться, фактически извиняться перед новым автором и его читателями: Киплинг получил поддержку тех, от лица которых он говорил и к кому в первую очередь обращался.
Да, говорил, как и Уайльд. В прямом смысле Киплинг, в отличие от своего блистательного современника-острослова, почти никогда не говорил с читателями, однако он, как и Оскар, сохранял разговорность в самом стиле. Только совсем иную разговорность, не для ушей тех, кто восхищался афоризмами Уайльда. Тут казарменная ругань, бюрократический жаргон, действительно вульгарная болтовня колониального «света», и в то же время чувствуется жесткая литературная рука, вгоняющая в послушный слог весь этот неприбранный, грубо звучащий и плохо пахнущий материал. Потомок эстетов, грезивших о стерильной чистоте средневековых линий! Они рисовали каких-то непорочных дев и старались передать в поэтической строке пение ветра, а у него в стихах (!) сквернословили солдаты, в рассказах свистел пар из четырехтактного двигателя. Впрочем, в стихах тоже мог быть пар, мог быть целый паровой котел, типографский станок, молотилка, барабан — вообще все, что угодно. «Магия! Это была форменная магия», — вспоминал позднее читатель-ветеран свои ранние впечатления от Киплинга. «Литература! Вот она Литература!» — торжествовал еще в то время один опытный редактор, через руки которого прошло немало молодых дарований с большим будущим. Как обычный читатель, так и литературный эксперт, оба почувствовали в книгах Киплинга чисто писательское умение справляться с любым жизненным материалом. Теперь, когда многие киплингианские чары развеяны временем, видно, насколько не широки были границы, ему подвластные, но тем отчетливее видно, что — было, была эта «магия» или умение заставить говорить пантеру и раскрыть «душу» корабля.