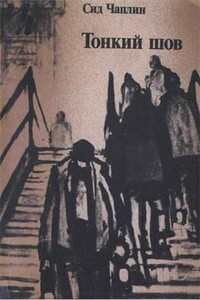Кнут | страница 45
— Тебя смущает этот соблазн? — спросил он с участливой улыбкой. — Там, где признание, там и он. Почти неизбежное братанье духа со скипетром, песни с гимном. Не ты первый, не ты последний. Вспомни возвышенные вирши Василья Андреича Жуковского "Певец в Кремле". И он ли один? Ты хочешь сказать: что можно певцу, то не положено мыслителю? Но разве мысль — не песнь ума? Да и мыслители — тоже люди. У них те же слабости, что у поэтов. Поэтому не тушуйся, Подколзин, пред государственной тусовкой. Укрась ее своим появлением. "Рука с рукой! Вождю вослед В одну, друзья, дорогу!" Возможно тщательней отскреби свой олимпийский подбородок и не забудь надеть штаны.
6
Чей это плач, что Русь не та, что мы не те, ни на что не гожи? Кто там пищит, канючит и хнычет, сеет уныние и меланхолию, вытаскивает одни непотребства и не видит ничего позитивного? Сказал бы я клеветникам России, жаль, воспитание не велит. Чей стон раздается, что дух ослаб, что мощь изошла, вертикаль надломилась? Коли ты неврастеник — лечись. Коли ты недруг, то зря надеешься. И гожи и сдюжим — что лжу, что ржу! Всякий, кто честен и чист душой, взгляни окрест себя и воспари — такую вертикаль поискать!
Роскошен и пышен был Зал Приемов. Все в нем пылало праздничным блеском. И потолок, похожий на купол, с люстрой немыслимой красоты, излучавшей золотое свечение, и плиты, сверкающие, как зеркала, и стены с их древнеримским величием. И все же не стены и не лепнина, не сокрушительное убранство, не блеск и злато слепили взгляд — сияние источали люди.
Стоило увидеть их всех — и в сердце рождались гордость и радость. Каждое имя было знакомо, отзванивало медью и бронзой, каждый принадлежал истории. Здесь, собранные в один букет, они уже были не только людьми, но символами, но славными знаками, и взору, способному проникать сквозь горные цепи десятилетий, их лица казались запечатленными на мраморных мемориальных досках.
Однако ж сегодня, к нашему счастью, все они живы и в добром здравии. Вот они, еще перед нами! Кто царственно перемещался в пространстве, словно осваивая его, кто с достоинством озирал дислокацию, выбрав себе удобное место, кто вел с адекватным ему собеседником приличествующий им диалог. Образовывались пары и группы, над Залом плыл немолчный шумок, казалось, жужжат кондиционеры или вращаются вентиляторы — но нет, этот звук производили негромкие голоса приглашенных, сливавшиеся в единый хор.
Все знали друг друга, один Подколзин растерянно поводил глазами, благо еще, что Яков Дьяков так же, как на премьере в театре, в подбитой бархатом ложе дирекции, вновь называл ему фамилии. Мало-помалу эти планеты, словно спустившись с незримых высот, стали понятными и различимыми.