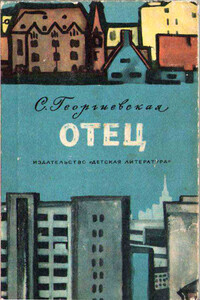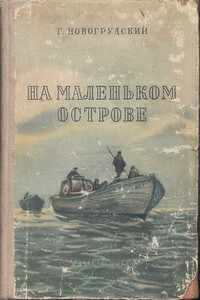Лгунья | страница 21
— Сева, уйдем… Все отчего-то на нас уставились…
— Еще бы! Ничего, Кириллка, не унывай! У меня как раз билеты в «Россию».
— Нет, лучше куда-нибудь, где никого-никого. Я их всех ненавижу… Понял? Всех! Всех!
* * *
Погасшим взором глядела она в окна раскачивавшегося трамвая.
Молчали.
«Ничего не скажешь, славно развлекся перед экзаменом. Неплохо провел вечерок, Костырик!»
Конечная остановка.
Нежно и жалобно шелестели кроны деревьев, похожие на метелки. Голыми были их общипанные стволы. Вот надпись на старом ясене: «Саша + Таня = Любовь».
Кира сидела, опершись о ствол, глядя злыми, невидящими глазами на эту дурацкую надпись. И вдруг, сощурившись, заговорила о матери… Говорила шепотом, проклиная ее, обзывая дурой. Лицо у девочки побледнело, ноздри раздулись…
— Сева!.. Она меня бьет… Бьет, бьет!..
Он слушал, не поднимая глаз, стиснув губы.
По Севиному разумению, мать была понятием святым, неприкосновенным даже в тайное тайных мысли. За всю свою жизнь он никогда не повысил на нее голоса, «жалел», приносил ей с получки то пирожок, то конфету.
Мать — это факт, обсуждению не поддающийся. Как луна и солнце. Если б она его и ударила… Что ж… Он бы жаловаться не смел.
«Мать!.. Ударила?.. Стало быть — довел».
… — Кира, ты ошалела?.. Ведь не чужая она тебе. Ждала. Беспокоилась… Разве можно не понимать?
— Что ты сказал?.. А ну — повтори!
И она приблизила свое побелевшее, яростное лицо совсем близко к его лицу.
— А ну, повтори!
Глаза ее сузились, волосы растрепались… Вскочила и злая, страшная, как колдунья, ударила его кулаком в грудь. Дрожащая от ненависти рука вцепилась в его парадную нейлоновую рубаху, дернула, оторвала пуговицу…
— Иди-ка целуйся с ними!.. Обнимайся, целуйся. Пожалуйста. Хоть с матерью, хоть с отцом! Валяй! Иди… Ну? Чего ж ты сидишь?.. Иди.
И, размахнувшись снова, яростно и беспомощно — совершенно по-детски — толкнула его кулаком в грудь.
Он пытался перехватить ее руки. Когда она заорала: «Целуйся с ними», — вспомнил почему-то Ивана Иваныча…
Хорошо… Ну, а что бы сказал отец, что бы сказал он сам, если бы кто-нибудь ни с того ни с сего уволок на всю ночь их Катю?.. По его понятиям о чести ему следовало сейчас же пойти к Зиновьевым и признаться, что это именно он, Костырик, Всеволод, бродил вчера по ночной Москве с его дочкой Кирой.
«Некрасиво. Нехорошо. Нечестно», — говорило что-то в глубине его уязвимой совести.
«Да ведь я не люблю ее вовсе!.. Или это зовется любовью?.. Жениться?.. Да как же я буду на ней женат?.. Она нас всех взбаламутит!.. Ну а работа?.. Я буду зависеть от ее вздорности, от ее причуд…