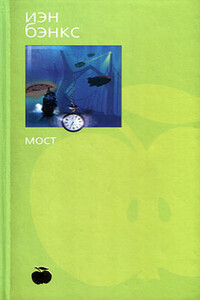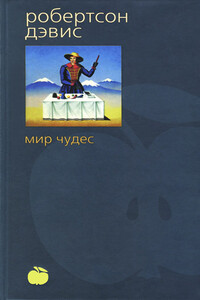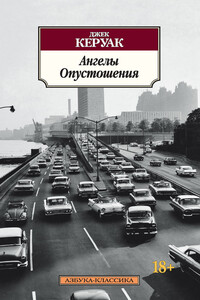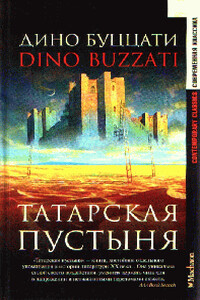Бродяги Дхармы | страница 86
Иногда я просто сидел в лесу и не мигая смотрел на сами вещи, все равно пытаясь предугадать тайну существования. Я смотрел на святые, желтые, длинные клонившиеся стебли напротив моего соломенного коврика — Татхагаты, Сиденья Чистоты, — а те кланялись во все стороны и переговаривались, сплетаясь волосами, а ветры диктовали им: «Та Та Та,» — кучками сплетников, и некоторые одинокие стебли-гордецы красовались по одну сторону, а больные или полумертвые уже совсем падали — целая паства живой травы внезапно занималась колокольным звоном на ветру, спохватывалась, переполошившись, вся из желтого, потом приникала к земле, и я думал: вот оно.
— Роп-роп-роп, — кричал я траве, и она показывала мне направление ветра своими разумными султанчиками — их трепало и мотыляло, и некоторые цеплялись корешками за цветущую землю воображения, за влажную идею коловращения, подвергшую карме сами их корешки со стебельками… жутко. Я засыпал, и мне снились слова: «Этим учением земля пришла к своему концу,» — и снилась моя мама, она торжественно кивала всей своею головой, умф, а глаза закрыты. Какое мне дело до всяких докучливых болячек и нудных несправедливостей мира, человеческие кости — лишь волынка тщетных линий, вся вселенная — незаполненная отливка звезд. Я — Бхикку, Пустая Крыса, — снилось мне.
Какое мне дело до вяканья малюсенького «я», скитающегося где-то там? Я имел дело с вышвырнутостью, с отрезанностью, с отчиканностью, с выдутостью, с отставленностью, с отключенностью — отщелкнутое звено, нир-, вот оно, — вана, щелк! Прах моих мыслей собрался в сферу, думал я, в этом нестареющем одиночестве, думал я и улыбался по-настоящему, потому что видел белый свет, наконец-то — везде и во всем.
Однажды ночью под теплым ветром сосны шептались глубоко, и я начал испытывать то, что на санскрите называется «Самапатти» — Трансцендентальные Посещения, Разум мой обволокла легкая дрема, но физически я каким-то образом бодрствовал — сидел выпрямившись у себя под деревом, как вдруг увидел цветы, розовые вселенные их стен поднимались вокруг, нежно-розовые, в шипящем шуме молчащих чащ (достигнуть нирваны — это как точно определить тишину), и передо мною возникло древнее видение Дипанкары Будды — того Будды, который никогда ничего не говорил: он был словно огромная заснеженная пирамида, с кустистыми червыми бровями как у Джона Б. Льюиса и ужасным взглядом, и весь он был в одном древнем месте — на снежном поле, вроде Альбана («Новое поле!» — кричала проповедница-негритянка), и от всего этого видения волосы у меня встали дыбом. Я помню странный, магический последний клич, вырвавшийся у меня, что бы он ни означал: Кольяколёр! Оно, видение это, было лишено всякого ощущения того, что я — это я, оно было чистейшей безэгостью, простым необузданным эфирным занятием, лишенным всяческих неправильных предикатов… лишенным усилия, лишенным ошибки. Все в порядке, думал я. Форма — это пустота, а пустота — это форма, и мы здесь навсегда в той форме или в иной, и все они пусты. Мертвые достигли лишь этого одного — насыщенного молчащего шороха Земли Чистого Пробуждения.