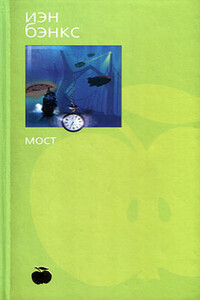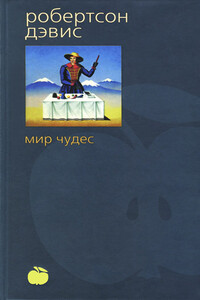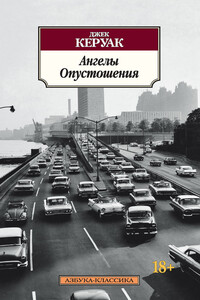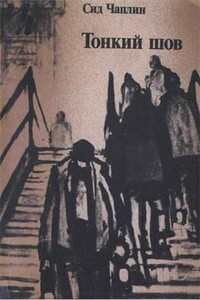Бродяги Дхармы | страница 81
Кот замяукал, глядя на ледник в нетерпении увидеть, что это там за милые и славные удовольствия. Я накормил его.
20
Немного погодя мои медитации и занятия стали приносить плоды. По-настоящему это началось в конце января, как-то морозной ночью в лесу, в мертвом молчании мне показалось, что я слышу слова: «Все в порядке навсегда, навсегда и навсегда». Я испустил громкое «хоо!» — час ночи, собаки переполошились и возрадовались. Мне хотелось вопить звездам. Я прижал к груди руки и молился:
— О, мудрый и умиротворенный дух Пробудителя, все в порядке навсегда, навсегда и навсегда, и благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, аминь. — Что мне до башни упырей, до спермы, костей и праха — я чувствовал себя свободным и, значит, был свободен.
Мне вдруг захотелось написать Уоррену Кафлину, который отчетливо возник передо мной, когда я припомнил его скромность и вообще молчаливость посреди тщетных воплей Алвы, Джафи и моих собственных: «Да, Кафлин, именно сияющая теперешнесть — это мы создали ее, — внесла Америку, будто на сияющем одеяле, в более яркое, нигдешнее Уже».
В феврале потеплело, земля начала немного оттаивать, и ночи в лесу стали мягче, а мой сон на задней веранде — радостнее. Звезды, казалось, повлажнели в небе, увелачились. Под звездами я, бывало, и задремывал, сидя по-турецки под своим деревом, и мой полусонный разум вопрошал: «Моав? Кто такой Моав?» — и я просыпался с репейником в руке, с хлопковой колючкой, снятой с какой-нибудь из собак. Проснувшись вот так, я сочинял мысль, вроде: «Все это разные проявления одного и того же — моя сонливость, репейник, Моав, — все это один эфемерный сон. Все принадлежит одной и той же пустоте, чтоб ей!» После я пропускал эти слова через свой разум, чтобы натренировать себя: «Я пустота, я ничем не отличаюсь от пустоты, и пустота ничем не отличается от меня; в действительности же пустота есть я.» Там была лужица воды, и в ней сверкала звездочка, и я плевал в эту лужицу, звезда уничтожалась, и я говорил:
— Эта звезда реальна?
Я не совсем забывал, что после этих вот полночных медитаций могу вернуться к хорошему теплому огню, любезно оставленному мне свояком, которому уже слегка приподнадоело, что я только болтаюсь по дому и не работаю. Однажды я прочел ему откуда-то строчку о том, как человек растет через страдание, а он ответил:
— Если растешь через страдание, то я к этому времени уже должен быть с дом.
Когда я заходил в деревенскую лавку купить хлеба и молока, старичье, посиживавшее там посреди бамбуковых шестов и бочонков с патокой, спрашивало: