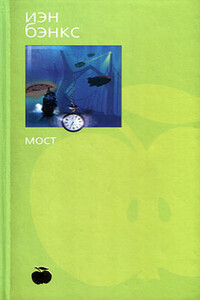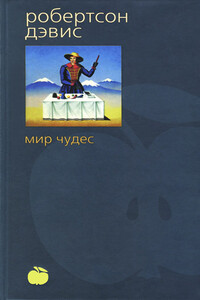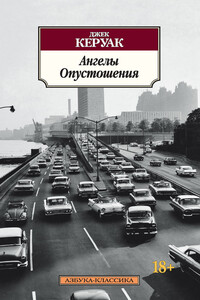Бродяги Дхармы | страница 80
Ага, — подумал я, — платишь собственным носом за преходящие зрелища…
Всю неделю я был дома один: мать уехала в Нью-Йорк на похороны, остальные домашние работали. Каждый день я уходил в сосновые леса со своими собаками, читал, учился, медитировал под теплым зимним южным солнышком, потом возвращался и в сумерках готовил для всех ужин. Кроме этого, я приколотил корзину и каждый вечер играл в баскетбол. По ночам, когда все ложились спать, я снова отправлялся в леса под светом звезд, а иногда — и под дождем со своим пончо. Леса принимали меня хорошо. Я развлекался тем, что сочинял крохотные стихотворения в духе Эмили Дикинсон: «Зажги свечу, ответь лжецу; к чему старанье и существованье?» — или: «Семя арбуза желанье разбудит, сочно нахлынет — вот тирания».
Пускай будет оттяг и блаженство навеки, — молился я в лесах по ночам. Я придумывал все новые и лучшие молитвы. И новые стихи, вроде тех, когда выпал снег: «Нечастый снег святой, в ненастье поклон живой,» — а однажды записал «Четыре неизбежности: 1. Заплесневевшие Книги, 2. Неинтересная Природа, 3. Скучное Существование, 4. Пустая Нирвана — ничего не попишешь, парень». Или скучными днями, когда ни буддизм, ни поэзия, ни вино, ни одиночество, ни баскетбол не приносили пользы моей ленивой, но старательной плоти, писал: «Нечего делать: практически хоть подыхай с тоски». Как-то днем я наблюдал за утками на выгоне через дорогу, а это было воскресенье, и громогласные проповедники орали по каролинскому радио, и я написал: «Представь себе благословение всех живущих и умирающих червей в вечности и уток, которые ими питаются… и вот тебе вся проповедь воскресной школы». Во сне я услышал слова: «Боль — это лишь выдох наложницы». Но у Шекспира было бы так: «Да, в моей вере этот мерзлый звук». Потом как-то вечером, после ужина, я мерял шагами продуваемую ветром холодную тьму двора, как вдруг ощутил невероятное уныние, бросился наземь и вскричал:
— Я умру! — потому что в холодном одиночестве жестокой, негостеприимной земли больше ничего не оставалось, и сразу же нежное блаженство просветления молоком пролилось мне на веки, и мне стало тепло. И я осознал, что такова истина, которую теперь знала Рози, и знали все мертвые — и мой покойный отец, и мой покойный брат, и покойные дядья, двоюродные братья и тетки, — истина, постигаемая костями мертвого человека, за пределами как Дерева Будды, так и Креста Иисуса. Верьте, что мир — лишь эфемерный цветок, и будете жить. Я это знал! Еще знал, что я — худший бичара на целом свете. Алмазный свет сиял в моих глазах.