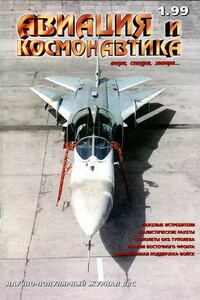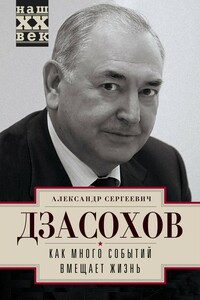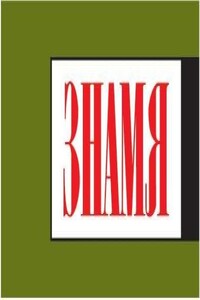Полвека в авиации: записки академика | страница 21
Но наступали времена, когда само оружие начинало играть все более весомую роль в достижении конечной цели любой воздушной операции — поражение противника, завоевание господства в воздухе. К этому подводил и анализ всех крупных сражений Второй мировой войны. Он показал, что только при обеспечении полного господства в воздухе одной из воюющих сторон возможна была победа на земле. Так, разгром немцев под Москвой предопределился тем, что авиация ПВО столицы сумела обеспечить свое господство в воздухе над своей зоной. И позже все десять крупнейших сражений, или, как их называли, «десять сталинских ударов», сопровождались господством в небе нашей авиации. В то же время наши поражения в сорок первом — начале сорок второго года в определенной мере были обусловлены превосходством «люфтваффе».
«Люфтваффе» оказались очень серьезным противником, и перелом борьбы с ними в нашу пользу я считаю одним из величайших подвигов советских летчиков. К сожалению, о нем иногда забывают, когда говорят о сухопутных операциях. Да, победы в них являются конечным результатом непосредственного соприкосновения с противником, но без обеспечения господства в воздухе ни одна такая операция не выигрывалась.
Решающее значение этого фактора для победы позже подтвердилось и во всех так называемых локальных конфликтах. Тем самым окончательно оправдала себя доктрина итальянского генерала Джулио Дуэ, сформулированная в начале прошлого века, которая гласила, что в будущем авиация станет определяющим видом вооруженных сил и, практически, чисто воздушные операции обеспечат той или иной стране достижение политических целей, лежащих, как правило, в основе любого военного конфликта.
Итак, при использовании самолета в боевых действиях роль оружия становилась все более важной, что и продиктовало создание такого научного центра, как наш НИИ-2.
В то время, когда я начал в нем работать — в 1953 году, учась одновременно в аспирантуре МВТУ, — в институте насчитывалось менее тысячи специалистов, но это был уже сложившийся научный коллектив. После защиты кандидатской диссертации в 1956 году я работал здесь уже на постоянной основе и с тех пор ни разу институту не изменил.
Особых душевных метаний — оставаться ли на преподавательской и научной работе в МВТУ или уходить в НИИ-2 — у меня не было: я выбрал институт авиационного вооружения.
Решающим стимулом стало то, что в учебном вузе я не смог бы прорваться на передний край работ в области управляемого вооружения, в которой стал специализироваться. Она была секретной, и получить необходимые материалы можно было, лишь работая непосредственно по той или иной закрытой теме, связанной с выбранной профессией; там, собственно, и происходило формирование этой области знаний. Забегая вперед, скажу, что и от преподавательской работы мне уйти не удалось, ею я занимаюсь всю жизнь, но это уже «вторичное» занятие. Почему я не отказался от него? Уже будучи заведующим кафедрой Московского физико-технического института, я входил в его методический совет, который возглавлял Петр Леонидович Капица. А он всегда говорил: