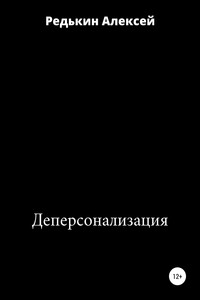Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала | страница 77
— Ну, Володька да Левка, да и тябе, Вадька, послушать не мяшаит, скажу-ка я вам, как чятал я свой первой рассказ на сяминаре у Бабеля Исака Мануилыча, учителя свово, по навету злодейки убиенного. Ну, взялси я только чятать, открывается дверь, и заходит Паустовскай, Кинстинтин Гиоргич!
Исак Мануилыч мне: «Ну, Хриша, извяни, Кинстинтин Гиоргич пришел. Начни-ка ты чятать заново». Ну, взялси я только чятать, отворяется дверь, и входит Та-алстой, Ляксей Николаич! Исак Мануилыч руками розводит и ховорит: «Ну, Хриша, извяни, Ляксей Николаич пришел, придетси тябе, голуба, снова начать!»
Сидим мы, между прочим, с поднятыми стаканами, Дядя-Вадя уменьшению частоты радуется, а мы с Левой не очень — нам по молодости процесс прерывать было не с руки.
— Ну, взялси я снова чятать, открывается дверь, и входит…
Тут я в манере повествователя как продолжу:
— Та-алстой, Лев Николаич!
А Лева как засмеялся, а окна как задрожали, а посуда как со стола посыпалась, а Дядя-Вадя как остекленел, а Григорий Иванович как вскинулся, да как заорал:
— Да ну тя, Володька, в пязду!
На эти черные слова в одной ночной рубашке из спальни выскочила моя маменька, женщина солидная и интеллигентная, ручки на большой груди сложила, глазки закатила и говорит:
— Ну, от вас-то, Григорий Иванович, я этого не ожидала! А еще советский писатель! Я вас, между прочим, на ночь читала!
А Григорий Иванович, казак, моряк и народный артист разговорного жанра, бух перед маменькой на колени, и как заорет тем же поставленным голосом:
— Про-ости, матушка, про-ости, родненькая! Бес мяня попутал, шо твой Володька шибчей мяня, писателя рускава, сказы сочиняить. В тябя он, матушка, в тябя весь! Зазавидовал яму я черной завистью и изругалси мерзопакостно! Отпусти уж мне, миленькая, грех мой поддай!
Конечно, для маменьки сынка похвалить на ночь надежней снотворной советской прозы. Умиротворилась она преподанным объяснением и спать пошла.
А мы дружно подняли стаканы в честь нами нечятаемого, но почятаемого главного инженера чялавечяских душ.
ЧА-ЧА-ЧА, ЧАЧА!
Сели Дядю-Вадю описывать в терминах конца прошлого века, хватило бы всего двух слов через черточку — секс-символ. А во времена нашей молодости требовалась расшифровка в духе кинофильма «Кавказская пленница»: спортсмен, отличник, комсомолец, красавец, и главное — владелец личного автомобиля, гордости совкового дизайна дожигулевской эры, голубого, как самые распространенные женские рейтузы, «москвича-412». Этот высокоскоростной пердун был свадебным подарком зятю от богатого тестя — живого классика Григория Коновалова в придачу к дочери Тане, спортсменке, отличнице, комсомолке, и, главное, красавице. Отблагодарить щедрого дарителя неторопливый Дядя-Вадя удосужился годам уже к тридцати, народив внучку-любимицу. До того красавцам было не до этого — отличники ковали научное счастье, кончая аспирантуры и защищая диссертации. Рождение наследницы трех ученых и одного писателя (теща тоже была доцентом) чудесным образом совпало с появлением очередной наследницы двух беспоместных инженеров — меня и моей жены.