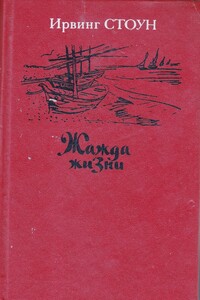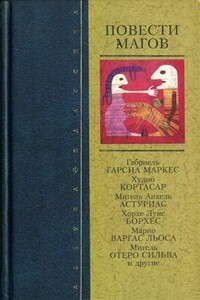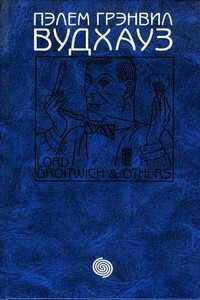Манящая бездна ада | страница 72
Узнали, когда Гиньясу соизволил заговорить, как только пришла зима и усадьба Лас-Касуаринас опустела и жители Санта-Марии, забывая о холоде и граде, пересказывали друг другу двусмысленную, потрясающую историю с завещанием, — мы узнали, что в тот сырой осенний день Гиньясу, не дожидаясь законного срока, передал им полудохлую, поносившую собачонку и пять банкнот по сто песо.
Но на самом-то деле мы уже намного раньше не могли не заподозрить, что Гиньясу передал им собаку и деньги. Мы предположили это в то воскресное утро, когда кто-то пришел сказать нам, что карлица уже сидит среди куч чемоданов и шляпных коробок, на ступеньках в порту, напротив причала парома, сидит, раскорячив ноги, оберегая свой, наверно, одиннадцатимесячный плод и лохматую, мерзкую собачонку.
О передаче этого двойного наследства мы и так догадались, когда другой человек рассказал нам, что на рассвете следующего дня после визита Гиньясу юноша, сидя на козлах хлипкого экипажа из Лас-Касуаринас и отчаянно нахлестывая лошадь, отправился объезжать окрестные усадьбы и скупать цветы. Покупал, не выбирая, платил, не торгуясь. Бросал охапки цветов под складной верх экипажа, не отказывался выпить стакан вина и снова взбирался на козлы. Он ездил по проселочным дорогам, останавливался, чтобы открывать и закрывать ворота, гнал лошадь при свете ущербного месяца, через стаи тощих, пятнистых, незаметных в темноте собак, натыкался на фонарные столбы и недоверчивые отказы — и в конце концов остался без сил и без единого песо, голодный и не выспавшийся, утративший прежнюю веру и забывший, для чего он все это делает.
Только утром лошадь остановилась, мотая головой, у ограды кладбища. Юноша поднял руки, защищаясь от тошнотворного запаха цветов, придавленных верхом экипажа, — он думал о женщинах, о смертях, о рассветах, дожидаясь колокольного звона в часовне, который откроет кладбищенские ворота.
Быть может, он подкупил сторожа улыбками или посулами, своим усталым видом и отчаянием, которое исходило от его тела и лица, вдруг постаревшего и длинноносого. Или же сторож почувствовал то, что мы трое — Ланса, Гиньясу и я, — как нам казалось, знали, что умирают молодыми те, кто чрезмерно возлюбил богов. Наверно, сторож смутно это почувствовал, на миг сбитый с толку ароматом цветов. Наверно, он сперва ткнул сидящего юношу своей палкой, а потом его узнал и обошелся с ним как с другом, как с гостем.
Потому что ему разрешили въехать на экипаже, направить, дергая поводья, лошадь, из чьей пасти шел пар, к склепу с колоннами и черным ангелом, опустившим сломанные крылья, с металлическими датами и скорбными восклицаниями.