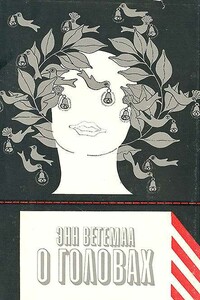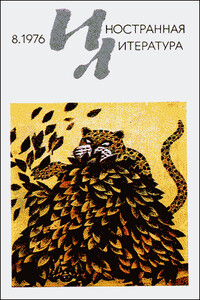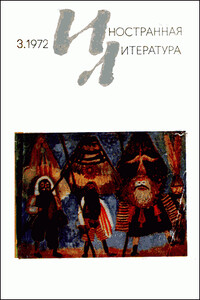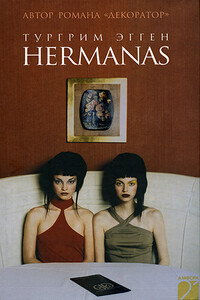Снежный ком | страница 11
Поставить на культработу такого молокососа! Какая уж там культура! Гнусные роки да «делай любовь со мной!». А Калеву волынку и рожок в зубы! Он, девяностокилограммовый бугай, должен пиликать на дурацкой ребячьей дудке! Плеваться хочется! А много ль наплюешься?.. К тому же в библиотеке.
Он все еще судорожно сжимал карту внесения навоза, но гнев потихоньку переходил в грусть. Эта грусть не отравила горечью, а обволокла чем-то мягким, даже приятным. Никуда мне отсюда не деться. Он бессильно опустился на скамеечку у печки. Да и хочется ли ему уходить отсюда? По-своему здесь даже мило: утром придешь, притащишь охапку заснеженных поленьев и растапливаешь печь. Пока закипает вода, смотришь на огонь, расставляешь книги… Утром сюда редко кто заходит.
Калев закрыл трубу. Снова подошел к окну. Затуманившийся взгляд надолго задержался на сонном зимнем пейзаже. Далеко в поле снялись со снега какие-то большие птицы — тетерева или куропатки? В метельном облаке их крылья лучились удивительным темным светом. На гребень леса выползало зимнее солнце цвета деревенского масла.
Жизнь ты моя, жизнь, думал Калев Пилль, глядя прямо на солнце — смотреть было не больно; солнце стояло тусклое, ленивое. В горле что-то сладко щемило, и Калев с испугом понял, что это сосущее чувство приятно ему, что ему просто не хватало этого чувства.
Утренние трамваи действительно разбудили Калева около половины шестого. Он закрыл окно, но заснуть больше не смог. Сосредоточенно исследовал он трещины на потолке: там был черт, толстуха, моющая ноги в тазу, и довольно похожая Волга (река, конечно, а не машина). Изучив эту выставку графики, он вскочил с постели и попытался сделать зарядку. Он поприседал, пару раз отжался, всякая охота заниматься отпала. Калев почесал мохнатую грудь, вспомнив народное присловье: «Волосатый — значит, будешь богатый», и пошел мыться. Раковина оказалась грязной. Носик старого медного крана смотрел вверх: кто-то испытывал на нем свою силу. Ни кривой кран, ни склизкая раковина не влекли заниматься личной гигиеной. Калев с омерзением воззрился на них, но делать было нечего — мыться надо. Однако кран испытывал к лектору и библиотечному работнику Калеву еще более пакостные чувства: фыркнув, он заурчал, потом утробно загудел, зашипел и стал отплевывать воду. Кружка отдавала то ли пластмассой, то ли мылом.
Хорошая мина плохой игры не спасает, подумал оратор и сеятель на ниве просвещения. Но все-таки изобразил на лице улыбку и натужно сохранил ее, пока брился. Он завязывал галстук и улыбался. Галстук был скользкий, дорогой, ярко-красные и черные полосы напоминали какую-то змею южных краев, виденную на картинке. Кажется, коралловую. Галстук прохладно скользнул под воротник рубашки, и на миг Калеву вспомнился Вольдемар Сяэск, — это был его подарок. Теперь он, правда, Voldemar Saesck — как значится на его визитной карточке. Вольдемар был однокашником Калева. Во время войны он попал в Канаду, а в прошлом году заехал к Калеву в гости. Воспоминание о Сяэске подняло настроение: Калев изрядно и не без успеха потрудился над его перевоспитанием. Вольдемар, к примеру, думал, что эстонцы носят лохмотья, едят картофельные очистки, а между собой говорят по-русски, но после финской баньки, приятной закусочки и — что важнее всего — после тактически грамотной разъяснительной работы (не слишком в лоб, не рубить сплеча — золотое правило идеологической борьбы) у того раскрылись глаза.