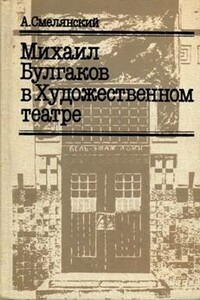Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 16
Через год в Ленинграде эта культура одарила иным открытием. Георгий Товстоногов показал инсценировку романа Достоевского «Идиот». Спектакль, выпущенный 31 декабря 1957 года, сразу же стал легендой. В критике замелькали непривычные слова совсем не из театрального ряда: «чудо», «паломничество», «откровение». Поскольку с этим спектаклем в книгу входит один из главных ее героев, а именно Георгий Товстоногов, то следует дать читателю хотя бы несколько биографических подробностей. Режиссер родился в Тифлисе в 1915 году, учился в ГИТИСе у Алексея Попова и Андрея Лобанова, вернулся в Грузию, потом в 1946 году перебрался в Москву и ставил в разных театрах то, что все ставили в те годы.
В «оттепели» Товстоногов расцвел. Сразу несколькими спектаклями (среди них «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского и «Пять вечеров» Александра Володина) он начал главнейшие линии своего искусства и заодно отечественной сцены. К этим спектаклям я еще вернусь, а сейчас — об «Идиоте», который стоит у истоков наиболее содержательной линии искусства Товстоногова.
Он мечтал поставить Достоевского сразу же после войны, что было бы, вероятно, очень созвучно времени невиданных страданий и унижений человечества. Но Достоевский попал в немилость. С легкой руки Горького его стали представлять своего рода «средневековым инквизитором» (так Горький назвал Достоевского на Первом съезде советских писателей в 1934 году), в его «Бесах» видели лишь злобный антиреволюционный памфлет, его апология «абсолютно прекрасного человека» — князя Мышкина — вызывала тяжелое подозрение в проповеди христианских идей. Мышкин в качестве героя стал вызовом. В том числе и самому себе. Товстоногов в прежние времена не раз ставил спектакли о «сильных людях», о Ленине, Сталине, Юлиусе Фучике. Абсолютно прекрасный человек, вернувшийся в Россию из швейцарской психолечебницы, был не просто новым персонажем советской сцены. «Идиот» начинал другую эпоху.
Театральные легенды часто сопряжены со счастливым случаем. Так было и на этот раз. Мышкина репетировал вполне хороший актер, но Товстоногов каким-то шестым чувством догадывался, что нужен другой, совсем другой, которого советская сцена еще (или уже) не знала. Нужен был артист и человек, как сейчас бы сказали, с другой ментальностью. И такой артист появился. Иннокентия Смоктуновского привела в город на Неве бродячая актерская судьба. Отработавший много лет в разных провинциальных театрах (в том числе в Норильске), он решил перебраться в столицу. Он был отвергну!’ режиссерами, которым показывался в Москве. Он был не нужен — и по справедливости: «ментальность» артиста была на редкость не подходящей для репертуара той поры. Ему некого было играть. Высокий, худой, с прозрачными голубыми глазами и светлыми, чуть вьющимися волосами, с каким-то за- вораживающе-странным голосом, которым он как бы не управлял, испуганной, осторожной «тюремной» пластикой (сказывался опыт человека, побывавшего в плену у немцев, а потом годами ожидавшего советского лагеря, он потому и в Норильск завербовался, что оттуда уже «не брали»