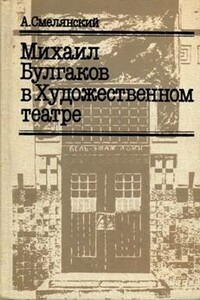Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 15
Тогда же было осторожно замечено, что режиссер не всегда четко проводит грань между этими двумя представлениями о народности. Критик и здесь угадал: пройдет совсем немного времени — и Равенских превратится в одну из главнейших опор послесталинского официоза, в котором идеализация народа будет носить приторно-казенный характер. Но тогда, во «Власти тьмы», Равенским владел счастливый и еще не расщепленный пафос, вместе с которым на сцену ворвался, как тогда любили говорить, «свежий ветер перемен».
Открытие пьесы было совершено вместе с Игорем Ильинским. Его Аким, жалкий чистильщик выгребных ям, представлен Толстым сокровенным носителем христианских идей. Нашелся еще один «искусник и затейник», великий эксцентрический артист, который неожиданно открыл себя и как артист трагический. Возник редкий сплав: в мучительных косноязычных пробуксовках «тае... не тае», в немых жестах чистильщика выгребных ям была открыта музыка чистой души. Ильинский, несмотря на всю свою идеологическую стерильность, доверился тому, чему доверял сам Толстой,— инстинкту, чувству правды. В Акиме было сыграно не то, правильно или неправильно верить в божий суд, сопротивляться или не сопротивляться злу. Аким — не философ. Он русский мужик, для которого бог есть совесть его, а отсутствие бога — тьма. И для этого конкретного мужика, что сбивал веничком снег с лаптей у порога, а не для всего человечества было жизненно важно, что этот бог существует. Вот почему событием глубоко личным, незабываемым и потрясающим был этот неграмотный мужичонка, что возвращал назад сложенную в восемь раз спасительную десятирублевку, полученную от сына-ду- шегуба. Ильинский — Аким уходил из избы, не в силах снести пьяного куража, уходил вон, в морозную темноту, чтобы через минуту вернуться, отворить дверь в избу и выкрикнуть своему сыну то, от чего за долгие годы отвыкли в России: «Опамятуйся, Микита. Душа надобна!».
На этой «душе» толстовство не примирялось, конечно, с новой идеологией. Но всей силой, доступной театру, утверждалась невозможность и ужас действительной «власти тьмы» — никакой нравственной нормой не освященной жизни, в которой все позволено. Мужицкий бог Акима нес избавление от скверны. Это было «покаяние» 50-х годов. Идея воскрешения души правила в спектакле, придавая ему совершенно особую интонацию и силу.
Режиссер и его актеры, постигая реального Толстого, попадали в зону сложного выбора. Религиозная основа пьесы, пафос скитальчества и бродяжничества, ненависть к любой собственности, так же как и ненависть ко всем формам внешней борьбы, — все это Равенских почувствовал у Толстого и постарался как-то выразить в спектакле. Поверить Толстому означало многое. Толстовство было не окраской, не неким идейным флером, который можно было легко снять, как это и делали наши режиссеры на протяжении нескольких послереволюционных десятилетий, «приближая» писателя к современности. Это была определенная форма мышления о мире и человеке, темный язык иной культуры, которая стала проступать из небытия.