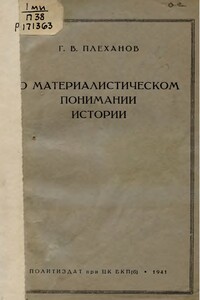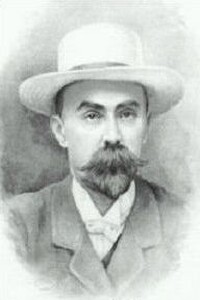Н. Г. Чернышевский. Книга вторая | страница 68
Заметим здесь также, что то соображение его, по которому меновая стоимость не может определяться количеством труда, нужным на производство каждой данной вещи (потому что это количество никому не известно теперь в точности), напоминает подобное же соображение Родбертуса. Убежденный доводами этого последнего, один немецкий архитектор решился исправить этот важный недостаток буржуазного общества и принялся высчитывать среднюю производительность труда рабочих, занимающихся строительным делом (каменщиков, плотников, столяров и т. д.). Нет надобности прибавлять, что эта затея архитектора-родбертусианца не имела никаких серьезных последствий.}.
Кроме того, Чернышевского сбивали еще и колебания товарных цен. Он знал, что "цена вещи именно и есть ее меновая стоимость, выраженная в деньгах". Но он знал также и то, что цены постоянно колеблются, и притом каждый производитель всеми правдами и неправдами старается получить за свой товар как можно больше, не стесняясь соображениями о так называемой "законной прибыли". Это, с одной стороны, заставило нашего автора признать, по примеру Милля, стоимость "явлением относительным", а с другой, — дало ему новый повод для нападок на буржуазное общество. "Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, — замечает он, — для этого нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, т. е. опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность". Та самая конкуренция, которая в действительности приводит товары к норме рабочего времени, кажется Чернышевскому главным препятствием, не позволяющим стоимости определяться трудом [110]. По его мнению, "коренной недостаток соперничества — тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его, не стоимость, а цену" [111]. Выясняя различие взглядов на стоимость, свойственных Рикардо, с одной стороны, и А. Смиту и Мальтусу — с другой, Милль делает очень справедливое замечание: "Когда Рикардо и другие политико-экономы говорят, что стоимость вещи определяется количеством труда, они говорят не о том количестве труда, за какое обменивается вещь, а о том количестве, какое нужно на ее производство… Но, когда Адам Смит и Мальтус говорят, что труд — мера стоимости, они разумеют не тот труд, каким была или может быть сделана вещь, а то количество труда, какое обменивается или покупается за эту вещь". Чернышевский прибавляет к этому, что Адам Смит и Мальтус искали в труде "верного мерила не меновой, а внутренней ценности, или стоимости производства", и таким образом приближались "к истинному смыслу вопроса, который понят был их последователями, как вопрос о меновой ценности"