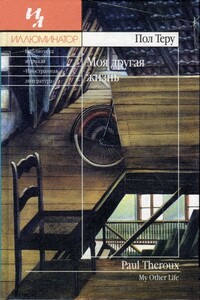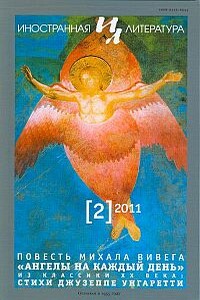Летописцы отцовской любви | страница 42
Самый начитанный дундук, какого я когда-либо встречала.
Два года я жила с человеком, готовым двадцать четыре часа в сутки защищать человеческие права любого меньшинства, но не желавшим признать ни на миг за моим отцом право на естественные человеческие желания. Два года я жила с человеком, который восторженно становился под знамена Правды и Любви, но на деле не способен был ни к любви, ни к нежности, ни даже к нормальной вежливости.
На куртке у него был народный триколор — под курткой презрение и ненависть к большинству народа.
Исключением были только меньшинства.
Вот что я скажу тебе, Виктор:
— С такими людьми, как ты, я отказываюсь иметь что-либо общее.
Часть третья
Вы любили когда-нибудь раковину?
1
Спустя неделю после автографиады — звонок в дверь. Решив, что Габина пришла чуть пораньше, я иду открывать. Но за дверью не Габина, а какой-то хмырь, который порывается тут же войти, хотя никто и не думает его приглашать. Я прикинул было, что этот хмырь пришел насчет газа или там еще чего, но он, не снимая штиблет, рванул прямиком в гостиную и, внахалку рассевшись на диване, объявил, что пришел сообщить мне, что моя книга банальная, кичовая, вульгарная и написана на скорую руку.
— А кем вы изволите быть? — спрашиваю.
Он называет свое имя, которого я в жизни не слыхивал, хотя он и утверждает, что принадлежит к когорте известных литературных критиков. Преимущественно он-де пишет о литературе, но разбирается в политологии, социологии, теологии и атомных электростанциях.
— Вы, должно быть, и вправду спец, — говорю я.
Он скромно пожимает плечами и снова заговаривает о моей книге: пишу я, дескать, стилем капиталистического реализма, бросаюсь словами, а претензии, которые я в своих постмодернистских философских отступлениях предъявляю к литературе, формулирую ждановской лексикой… Он нес такую бредятину, что вступать с ним в дебаты было бессмысленно. Однако более всего меня зацепило, что он был преисполнен дикой ненависти ко мне. Я начисто не мог понять причину такого злобствования и должен признать, что поначалу это меня даже ошарашило. Ведь эти деятели из Института чешской литературы ни о чем подобном тогда и не вякали!
Ну и сыграли со мной подлянку, думал я и в то же время быстро прикидывал, как бы этому дубарю раз и навсегда заткнуть глотку. Он говорил, что, дескать, в моей книге он с ходу обнаружил подозрительный схематизм, корнями уходящий, судя по всему, в пятидесятые годы,