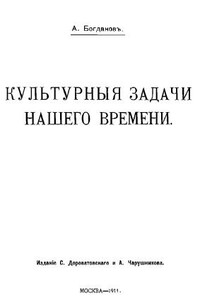Судьба и грехи России | страница 73
И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить как дар («а прочее приложится») научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, рождался университет — в «золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, — ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, такой летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.
Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык — гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это ведь тоже потому, что на нем и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры), находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).
Все это так. Но этот великолепный язык до XYIII века был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский, язык, несмотря на обилие иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за органичность Древней Руси — глубоким расколом петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.
==74
Монах и книжник Древней Руси был очень близок к народу — но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения — ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте: «Tutti tirati sone tutti tiranu» — «Все влекутся, и все влекут».