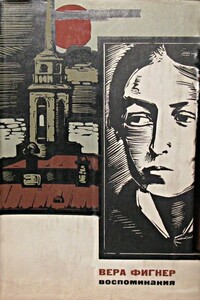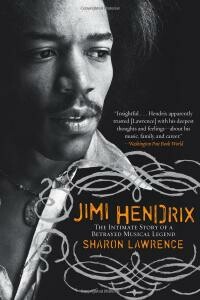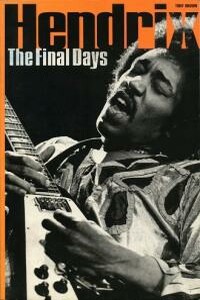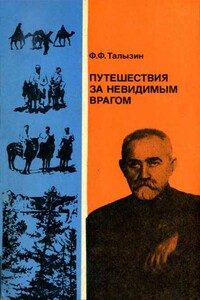Запечатленный труд (Том 2) | страница 9
Для меня Шлиссельбург дал еще нечто непредвиденное, к чему я не приготовлялась, к чему не была готова.
Была радость, последняя радость в жизни, — была мать. Эту радость отняли — отняли мать, единственную, которая связывала с жизнью, единственную, к которой можно было прильнуть, падая на дно.
Угасла радость, но, угасая, оставила жгучую скорбь.
На свободе я жила без матери и лишь изредка мысленно обращалась к ней.
Но тогда у меня была родина, была деятельность, были привязанности и дружба, было товарищество.
А теперь? Никого. Ничего.
И мать — эта последняя потеря, потеря последнего — стала как бы символом всех потерь, великих и малых, всех лишений, крупных и мелких.
Никогда в сознании у меня не рождалось сожаления, что я выбрала путь, который привел сюда. Этот путь избрала моя воля — сожаления быть не могло.
Сожаления не было, а страдание было.
Никогда в сознании у меня не рождалось сожаления, что на мне не тонкое белье и платья, а грубая дерюга и халат с тузом на спине.
Сожаления не было, а страдание было.
В сознании была только мать, одна мать, одна, все застилающая скорбь разлуки с ней. Но эта скорбь поглощала, воплощала в себе все страдания, все скорби: скорбь раздавленных и оскорбленных стремлений духа и скорбь угнетенных и униженных привычек плоти.
И скорбь, символизированная в образе матери, приобретала едкую горечь всех потерь, всех лишений, ту непреодолимую силу, которая дается чувству всем тем, что, не доходя до сознания, кроется в темных глубинах подсознательного.
Затемненной душе грозила гибель.
Но когда — еще немного, и возвращаться было бы поздно — внутренний голос сказал: «Остановись!» — это сказал мне страх смерти. Смерть казалась желанной, она сплеталась с идеей мученичества, понятие о святости которого закладывалось в детстве традициями христианства, а затем укреплялось всей историей борьбы за право угнетенных.
Остановил страх безумия, этой деградации человека, унижения его духа и плоти.
Но остановиться значило стремиться к норме, к душевному выздоровлению.
И этому помогли друзья.
Засветились маленькие огоньки, как огни восковых свечей на вербное воскресенье. Заговорили немые стены Шлиссельбурга — завязались сношения с товарищами.
Они дали ласку, давали любовь, и таяла от них ледяная кора Шлиссельбурга.
…Были и другие влияния, строгие слова, уроки. Однажды сосед, незнакомый мне человек, спросил, что я делаю.
— Думаю о матери и… плачу, — отвечала я.
Сосед на меня обрушился. Он спрашивал, читала ли я в «Отечественных записках» воспоминания Симона Мейера