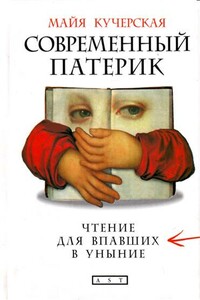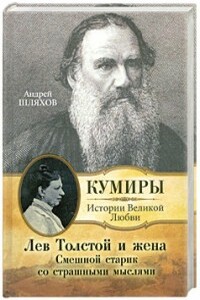Кабирия с Обводного канала (сборник) | страница 72
...Пока Хенк, шепча ласковые глупости, закапывал мне в ухо и в ноздри какие-то омерзительные снадобья, мои пальцы рассеянно и нежно осязали его юношеское тело – проникая везде, куда считали нужным проникнуть. У меня профессиональные пальцы. Они сами, без вмешательства моей головы, превосходно знают, каким туше надо касаться клавиш, какими пиццикато и легато извлекать стоны из струн, чтобы за несколько мгновений добытой музыки мужчина готов был отдать свою жизнь... Хенк начал дрожать – сперва тихонько, потом все крупнее – как жеребец, предчувствующий изуверскую муку и неминуче-желанную казнь. «Хочешь, чтобы я полечил тебя, Соланж?..» Тело мое безвольно таяло от жара... Я медленно закрыла глаза: да, Хенк... да...
22
Меня всегда поражала молниеносность, с какой Хенк, получив такое распоряжение, сбрасывал джинсы. В этом смысле он был, как это точно называется у англичан, «a real quick-response» (быстро реагирующий). В случае с Хенком я иногда не успевала даже приотворять врата в свой сезам.
Но сегодня было иначе.
Уже всходило солнце. День зарождался прекрасный. Глядя Хенку в глаза, я, медленно, очень медленно, расторгла союз моих склеенных жаром и спермой бедер – затем, с осторожной, словно бы материнской нежностью высвободила из буйно перепутанных, слипшихся водорослей сочно-розовые, набухшие гребни плотоядной морской раковины, – затем, обнажив ее нутряные, влажные, нежно вздрагивающие лепестки, я, легким движением ногтя разобрала-разлепила их – широко распахнув перед побелевшими зрачками Хенка извечную книгу Жизни и Смерти... Затем легонько оттянула эти лепестки в стороны – и, наконец, причиняя себе боль, с силой прижала их длинными, узкими своими ногтями, обеспечив тем самым для Хенка максимальную беспрепятственность входа.
Войдя в меня безо всякой увертюры, но с душераздирающей осторожностью, словно вход был хрупким, как орхидея, Хенк не сделал ни одного неосторожного движенья... Тебе нельзя сегодня кричать, золотце... Не буду, мой обконченный кобелечек... Не будешь, сучоночка моя сладенькая?.. Правда не будешь?.. Сдерживая дрожь кожи и аритмию дыхания, он почти не делал никаких, даже малых движений соития, наслаждаясь сам и заставляя наслаждаться меня непроизвольными сокращениями мышц внутри моего лона. Мое внутреннее осязание обострилось на порядки; роящиеся мириады влажно-обнаженных тактильных моих щупальцев ощущали сладостно-сильное биение крови внутри жестокого, предельно жесткого, неподвижного его члена. Уже одной только силы этих пульсирующих толчков мне было достаточно, чтобы безвольно изойти в изуверской судороге. Волны сладостно-медленных сокращений, над которыми я была не властна, влажными манжетами нежно обхватывали-обволакивали здесь и там этот победительно-массивный член, терзающий меня своей неподвижностью, – эти непроизвольные касания-перебирания дивного инструмента, моего внутреннего инструмента, эти прохождения по всей его длине, схожие с волшебной игрой на волшебной флейте, рождали ручейки нездешней музыки, но не я, не я определяла партитуру касаний, на каждое из которых так чутко вздрагивал-откликался член Хенка и каждое из которых отражалось судорогой в его лице. Забив себе рот грязной простыней, медленно и беззвучно, медленно и беззвучно, как на дыбе, я исходила вековечной, смертной, полновесной мукой женщины под безупречно сработанным мускульным аппаратом самца. Не двигайся, девочка, не двигайся.... ты же не шлюха... ты же моя девочка, да? Так кайфовей, золотце... ох, шлюшка моя обдолбанная... ох, проституточка моя сладенькая... не вздумай орать, кошечка, не вздумай, шлюшечка, сегодня тебе нельзя.... не будешь, девочка?.. Медленно подводя меня к ускользающему порогу отключки, еще изощренней обостряя мою чувствительность своей внезапной рациональностью, Хенк – по-прежнему почти не двигаясь, почти совсем не двигаясь, – начал искусно терзать меня пыткой долгого, безвременного, словно безнадежного ожидания. Он изводил и дразнил меня, изводил и дразнил, делал обманный ход и поддразнивал, как дразнят куском мяса облезлую, помойную сучку – подыхающую сучку, свихнувшуюся от голода, – и наконец, не отводя глаз, показал мне, что собирается сделать финальный, крохотный, ничтожный толчок, причем если бы, продолжая меня терзать, он так и не сделал его, я бы подохла какой-то другой мукой, – но он, сжалившись, все-таки сделал это крохотное, наверное, совсем не заметное снаружи движение, – и я обвалилась, я рухнула, вся, без остатка, – как рыба, висевшая на крючке, зацепленная за кровавую свою губу – рыба, не имевшая права даже биться в конвульсиях, – но вот – вышвырнутая милосердно – ушедшая наконец в прохладные темные глубины...