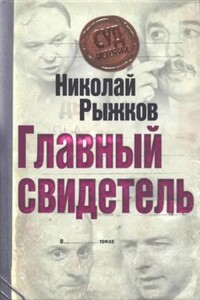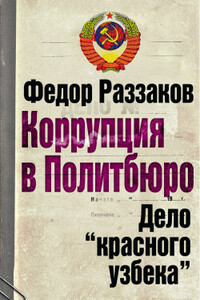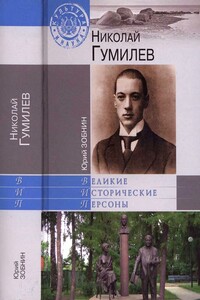Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии | страница 63
XVII
Наученный горьким опытом Себежа, Агранов не торопился с арестами фигурантов для будущего, главного для него этапа расследования. И только тогда, когда со всей очевидностью стало ясно, что группа, созданная Ю. П. Германом и В. Г. Шведовым, — не блеф очередного авантюриста, дождавшись, пока ответственные лица ПетрогубЧК официально отчитаются за проделанную работу (устами все того же Семенова), Агранов делает стремительный рывок — и мертвой хваткой вцепляется в Таганцева.
С этого момента и подследственные, и даже рядовые питерские чекисты, разумеется, не посвященные в замысел Агранова, с недоумением и страхом начинают замечать странную, невиданную метаморфозу в проведении следствия и полное смещение акцентов в выборе главных фигурантов дела.
Чекисты, уже отрапортовавшие Москве о победном разгроме заговора и уже вычертившие для истории свои отчетные "схемы", где, как мы помним, Гумилев занимал третьестепенное место на глухой периферии, вообще не понимают, зачем персонажей этой "периферии" Агранов вновь и вновь начинает отрабатывать с таким пристрастием, только затягивая завершение вполне оконченного дела. С этими интеллигентами и так давно все ясно! Полтора года назад им грозила бы стенка, а в гуманном настоящем максимум, что можно им "предложить", — два года лагерей. Овчинка явно не стоит выделки…
Невольное лирическое отступление: странно подумать, какой была бы отечественная история и культура, не явись в мае 1921 года в Петроград вдохновенный Агранов! Никакого "таганцевского заговора" не было бы и в помине. Был бы заговор "германо-шведовский", в котором Таганцев пострадал бы, конечно, но почти наверняка "в виду потепления международной обстановки", расстрела бы избежал… и канул в летейские воды чекистских и научных архивов. А вот Гумилев…
Но история не знает сослагательного наклонения.
…Подследственные "таганцевцы" (возвращаемся к нашему повествованию) — прежде всего прибывающие на Гороховую, 2, деятели "профессорской группы", — становятся первыми в российской истории XX века жертвами аграновского Минотавра. Их гибель неизбежна, ибо они еще живут старыми представлениями о следственной логике и, стараясь избежать худшего, сами роют себе могилу Ведь и Гумилев, как мы уже могли понять, не собирался сдаваться без боя и с самого первого допроса выстраивал свою, весьма эффективную в предшествующую, "доаграновскую" эпоху отечественной юриспруденции, линию защиты.
Как всякий нормальный традиционно мыслящий человек, Николай Степанович резонно полагал, что наибольшую опасность для него представляет обнаружение чекистами фактов его контрреволюционной