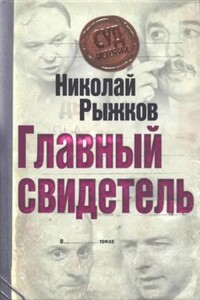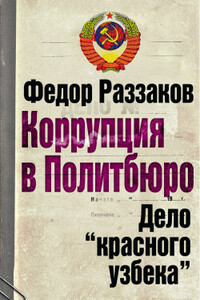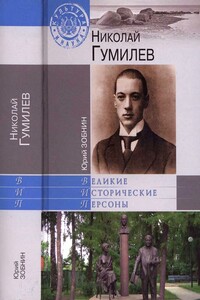Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии | страница 51
Однако Гумилев был расстрелян. Мало того, именно Гумилев и члены "профессорской группы", а не лидеры и боевики ПБО оказались главными действующими лицами "Таганцевского заговора" в последующих советских исторических интерпретациях трагедии 1921 года.
Почему?
Расхожий ответ на этот вопрос многих, даже вполне компетентных, гумилевоведов до сих пор основывается на мнении о поголовной патологической кровожадности сотрудников ВЧК, расстреливавших без разбора всех, кто по каким-то причинам оказывался в поле их зрения. Более "умеренная" (и более доказуемо корректная) версия того же ответа указывает на практику бессудного расстрела заложников в годы "красного террора".
Однако связь "Таганцевского дела" именно с "красным террором" (если понимать последний не как метафору, относящуюся ко всему периоду правления коммунистического режима в России, а как конкретную историческую данность) очень проблематична, и профессиональные историки, обращавшиеся к "делу ПБО", прекрасно понимают это. М. Петров, например, указывал на то, что расстрел "таганцевцев" "не следует увязывать с красным террором. Еще 17 января 1920 года ВЦИК и СНК приняли постановление об отмене смертной казни"[137]. "…Как раз в 1921 году заговорщиков могли и не расстрелять! — пишет о том же Д. Фельдман. — Постановлением ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года высшая мера наказания в ряде случаев отменяется: "…Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора"