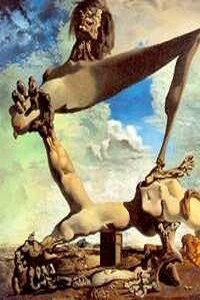Архив Андрея Ваджры. Том 2 | страница 72
7
Во время своей учёбы в Берлине, Карл близко сходится с членами берлинского кружка младогегельянцев, так называемого «Докторского клуба». Идейным вождём «клуба» был Бруно Бауэр, приват-доцент теологии Боннского университета, один из лучших учеников Гегеля.
Что было общего у Маркса и младогегельянцев? Судя по всему – критическое отношение к религии и теологии. Специфическое, восприятие иудаизма Генрихом Марксом (его склонность всё рассматривать с позиции разума), нашло своё логическое завершение в безбожии его сына Карла. По сути, путь Карла от младогегельянца до идеолога коммунистической доктрины шёл через безбожие и богоотрицание. Ему не нужен был немощный, небесный Бог. Его новая религия нуждалась в Боге живом, сильном, действенном. «Убить» Бога небесного не значило для него «убить» Бога как такового. Недаром он сделал эпиграфом к своей диссертации изречение Эпикура: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах».
Через отрицание религии направленной к небу, он создаёт религию, переносящую центр тяжести с небес на землю. Он глубоко убеждён, он знает, что Бог на земле.
«От идеализма, - писал он, - …я перешёл к тому, чтобы искать идею в самой действительности. Если прежде боги жили над землёй, то теперь они стали центром её».
Вполне вероятно, что неудержимое юношеское стремление освободиться от тяжести христианства, было обусловлено невозможностью служить двум господам.
«…человеку божество указало общую цель – облагородить человечество и самого себя, но оно предоставило ему самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели; оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему наиболее соответствует и которое даст ему наилучшую возможность возвысить себя и общество».
Карл был уверен, что христианский Бог ему это не позволит. Поэтому, чтобы прийти к своему Богу, к своей религии, он должен был, прежде всего, освободиться от Бога христианского.
8
В мае 1838 года, после продолжительной болезни, умирает Генрих Маркс. Надо полагать, что благодаря этому не произошёл окончательный разрыв между отцом и сыном. Нежелание Карла связать свою судьбу с профессией юриста и его увлечённость философией (далёкой от практической деятельности, способной приносить доход) вызывали у Генриха страх и отчаяние. Ощущая демоническую натуру сына, он с ужасом смотрел в его будущее. За год до своей кончины, в марте 1837 года, уже будучи тяжело больным, этот мягкий и добрый человек пишет крайне резкое, несвойственное его характеру, письмо.