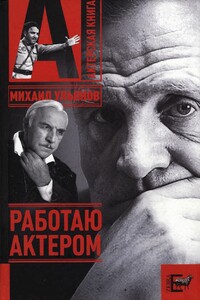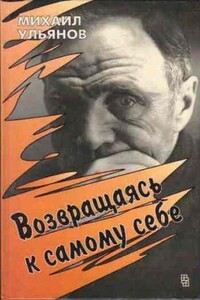Реальность и мечта | страница 84
Для того чтобы построить здание спектакля, имея фундаментом гранит прозы Айтматова, мы использовали обыкновенные театральные средства-«опоры» — декорации и музыку. Они помогали лучше передать тревогу, полные беспокойства размышления героя, выбор им позиции в нашем кипящем мире, все то, чем так озабочен Айтматов.
Создавая декорации, не пожалел сил художник Иосиф Сум- баташвили.
Вся открытая сцена Театра Вахтангова была затянута желтым, как песок, материалом. «Сарозеки — желтые земли серединных песков»* — пишет автор в романе. И в этой бескрайности — взметенные, как пламя, как взрыв, как след ракеты, как девятый вал, вздыбленные рельсы. А «по сторонам от железной дороги лежат сарозеки». Все было метафорично и соответствовало авторскому видению. Это не фотография места, а именно его образ. Сумбаташвили как художнику присуще умение вот таким выразительным решением сценического пространства, одним точно найденным образом раскрыть весь характер, весь смысл спектакля. И ничего лишнего. Ни одной отвлекающей детали.
А музыка! Не часто мне встречалось такое проникновение в дух и смысл спектакля, как это получилось у композитора Гази- зы Жубановой. Музыка к спектаклю может быть и его помощницей, и его противницей, ненужным, раздражающим украшением, которое отвлекает от сути, от мысли и звучит поперек замысла, поперек решения. Точно найденное музыкальное сопровождение отличается тем, что его будто и не слышно, но возникает оно лишь й тот момент, когда так необходимо зрителю для рождения образа. Музыка Жубановой была именно такой. Ее мелодии с национальным колоритом удивительно органично вплелись в ткань спектакля и создали особую тревожно-чарующую ноту.
Немаловажно, что в романе Айтматова многие и, может быть, самые нужные для инсценировки размышления идут от автора. Их не всегда удается перевести в диалог, и в этом была наисложнейшая проблема. Как ни странно, после разных вариантов и проб мы остановились на старом, но единственно верном решении — пусть спектаклем будет рассказ-исповедь Едигея. А для попадания в образ следовало найти доверительную, душевную ноту этого рассказа, чтобы зритель превратился в заинтересованного свидетеля жизни Едигея. Соучастие этой исповеди по замыслу должно было придать спектаклю движение и дыхание. Через человеческую сопричастность нам хотелось добиться зеркального эффекта: чтобы, вслушиваясь в раздумья Едигея, зритель оглядывался на себя и распутывал свои сложности.