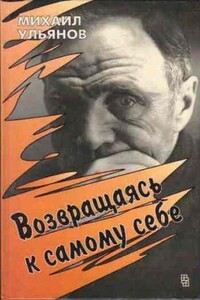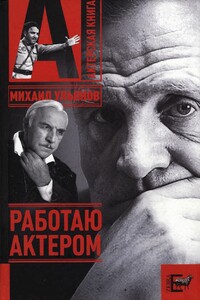Реальность и мечта | страница 127
Итак, только через себя, через собственное понимание скрытых пружин человеческого характера актер изображает любого короля и любого императора. Но как же тяжело убедить некоторых зрителей, что император тоже человек! С детских сказок, что ли, вырабатывается убеждение в противном? Раз король, значит, нечто сверхъестественное и особенное, не такое, как у простых смертных. И ходят короли не так, как мы, и думают-то они по- другому! Есть в этом что-то рабское. Косвенное свидетельство тому — письмо, которое я получил однажды после показа на телевидении спектакля «Ричард III» от одной разгневанной зрительницы. Она возмущалась: «Что это у вас декорация из одних досок? Все же Ричард — английский король! Мог бы себе построить и получше покои. Разве для короля стали бы строить из досок?»
Что тут спорить! Тут вкус надо воспитывать, художественный вкус. И образное мышление, и внутреннюю свободу, и способность в едва обозначенных символах видеть целое явление и даже всеобще многообразие мира.
И Антоний, если верить в подлинность письменных источников, был человек, а не идеал. Грешник был, великий, видать, грешник. Но увидел Клеопатру, и не стало человека нежнее, и влюбленнее, и безумнее его. Тем и дорог он стал зрителю, поэтому одиннадцать лет мой «неимператорский», но неистовый
Антоний умирал на сцене от любви к прекрасной колдунье Клеопатре и рвался к ней в Египет, забыв и власть, и Рим. А у меня порой не хватало физических сил под бременем этих страстей, чтобы передать пламенный темперамент античного римлянина. «Ты знала хорошо, / Что сердцем у тебя я на буксире / И тронусь вслед. Ты знала, что тебе / Достаточно кивнуть, и ты заставишь / Меня забыть веления богов»…
А теперь мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, что превращает драматургического персонажа в подлинного героя.
По-моему, ответ может скрываться в образе Юлия Цезаря из «Мартовских ид». Эта фигура с легкой руки историков и драматургов в нашем сознании накрепко связана с переломами эпох и сдвигами пластов времени. Но какие бы титаны ни выходили на общественную арену, чтобы увлекать людей за собой, остается лишь удивляться, сколь однообразно ведет себя человечество в «минуты роковые» социальных потрясений, когда бы и где бы они ни происходили. Будь то Франция начала XIX века, Англия XV или совсем уже архаика — дохристианская эпоха, упадок республики и создание империи в Риме.
Естественно, Торнтон Уайлдер, автор романа «Мартовские иды», не мог не насытить свое произведение мыслями и чувствами своих современников, идеями текущего дня, но в том-то и фокус, что эти мысли, чувства и идеи родственным эхом отзываются для нас. Словно голоса веков окликают живущих сегодня: «Посмотрите на нас, прислушайтесь, как мы рядили и судили, приглядитесь, в чем наши ошибки, и не повторяйте их. Наш горький опыт — для кого он, как не для вас, потомков?»