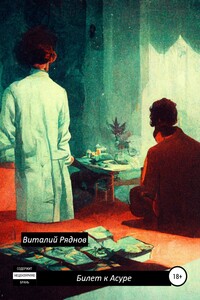Новый мир, 2005 № 10 | страница 20
Между тем у Саломеи были свои соображения и свои резоны. Она уже протоптала четко видимую ей свою дорожку.
— Что касается квартиры, Алексей. Я не обязательно пойду в какую-нибудь театральную богадельню. Я присмотрела Дом ветеранов кино, он в Москве, в черте города, а для меня это важно, потому что это связано с моими процедурами. Там очень хорошо и надежно. Мы же были там как-то.
Я вспомнил этот дом, лет двадцать назад, в советскую эпоху, казавшийся просто роскошным. На некоторых этажах действительно жили и порой умирали ветераны, когда-то знаменитые. Но в доме все время, в залах и холлах, устраивались какие-то интересные тусовки для творческой интеллигенции, так сказать, живые все время терлись о будущих быстрых покойников. Возможно, и сегодня там не так плохо и людей не загоняют в общее стадо обреченных. По крайней мере, когда мы с Саломеей оказались там, было достаточно интересно и весело: может, потому, что ночью отчаянно трещала и скрипела наша кровать? Я вообще хорошо помню все, что связано с Сало-меей. У нее через день должен был быть спектакль, а я все приставал и приставал, а она говорила: “Отстань, ты же знаешь, я послезавтра пою!” Как все это далеко, чуть ли не в другой жизни. А одну ли жизнь проживает человек? И один ли человек проживает всю свою жизнь, или их бывает несколько? Разве я, который сидит сейчас за столом, — это тот двадцатилетний перепел, который вслушивался в звук каблучков во дворе?
— Ну что ты от меня хочешь, Саломея? Ты знаешь меня лучше, чем я сам себя. Что мне тебе сказать? Сразу согласиться на предательство? А что в этом случае произойдет с моею собственной душой? Начать потакать твоим глупостям, о которых ты сама скоро начнешь жалеть? Все это нелепо, и все это не осуществится.
Саломея опять посмотрела на меня. И сидящая на полу собака тоже повернула синхронно голову в мою сторону. Обе они смотрели на меня с укором. Уши у Розалинды печально висели.
— Ты же все равно едешь в Марбург читать лекцию, — сказала Саломея. — Что тебе мешает оглядеться, так сказать, совершить “пристрелку”?
— Ты испытываешь меня?
— Я просто хочу тебе сказать, что ты свободен. Может быть, это даже не по-божески — губить свою жизнь ради чужой. Ты должен знать, что я так думаю. Если есть шанс — им надо воспользоваться.
После этого я очень долго размышлял о власти над нами женщин, о власти над нами жениной любви и о нашей мужской покорности судьбе.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я лечу на самолете в зарубежную командировку, о которой недавно говорил на кухне с Саломеей. Вечерний рейс Москва — Франкфурт-на-Майне. Она на попечении моего аспиранта Толика и его невесты. Занятная парочка, и занятный парень. Но, может быть, подойдет время, и я расскажу и о них. Я лечу в Германию, русские цепью прикованы к этой стране. О царях, их женах и “немецких специалистах” не говорю. Недаром, кстати, вся революционная эмиграция сидела по берлинским и мюнхенским кафе. Где потом у нас Ленин издавал “Искру”? Это не нудная командировка, где лекция за лекцией или трехдневное сидение на научной конференции, заход в супермаркет и — снова в самолет, чтобы обратно в Шереметьево, кстати, самый жалкий и отвратительный аэропорт в мире, хуже может быть где-нибудь в Африке или в солнечном Узбекистане, на Кушке. Отчасти я предвкушаю эту командировку, отчасти боюсь. Что за два героя разгуливают в моем воображении? Мне предстоит прочесть две лекции в одном провинциальном городе. Провинциален, но не прост. Пейзаж, характер, общий адрес у этого города имеется. Имя — знаковое. Для русской интеллигенции все это расхожие цитаты. “…А в Марбурге кто, громко свища, мастерил самострел, кто молча готовился к Троицкой ярмарке”. С трагическим двойным смыслом слова “самострел”. Жалко, что другой классик русской литературы ни слова в стихах не написал об этом городе, но, возможно, потому, что тот всю жизнь был у него перед глазами в лице преданной и тихой жены-немки. С разбегом в сто семьдесят пять лет они оба — и Пастернак, и Ломоносов — жили здесь и учились в университете. У обоих в это время был напряженнейший любовный роман. Штаны трещали от юношеского сперматогенеза или воздух этого города располагает к любви?