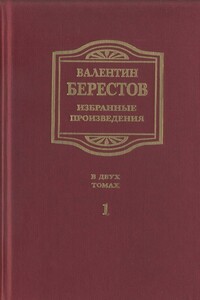Новый мир, 2008 № 08 | страница 11
В сумеречной тиши отчетливо и таинственно слышался каждый шорох. У ближней кулижки плескались утки, высоко в бережинах, невидимые от воды, шумели кусты, скрипела старым стволом рябина, а где-то совсем рядом пролетела птица, взбивая тяжелым крылом стылую приречную темноту. Солнце к этому часу уже упряталось за нехожими долами и лесами и оттого река казалась особенно глубокой и черной, как ночное небо.
Галерий Васильевич опасливо пригляделся к кустам. Ему вдруг припомнилось, как давным-давно с соседом Андреем Прокопьевичем они охотились на току. Как шли с ружьями солнечным весенним лесом, жгли костер в засторонке, устраивая место для спанья, а к вечеру, в потемни, выбрели ко глухариному току и схоронились под елками. Лес, как и сейчас, был темен и тих. Старику Прокопьевичу все хотелось поговорить, он покашливал в закуржевевшую рукавицу и негромко шептал:
— Слыш-ко, раньше, говорят, рябы-ти с корову были!
— Угу, — недовольно мычал в ответ Геля. На току он охотился первый раз, был молчалив и только зыркал по сторонам большими глазищами.
— А пошто ты не спрашивашь, как ряб-то маленьким стал? — не унимался напарник. Он похохатывал и подтыкал Гельку в бок. Ждал, когда тот спросит.
Но Галерий молчал. Ему было неприятно стариковское веселье. “Вот старый пентюх, — незлобиво думал он, чертыхаясь. — Нашел время позубоскалить, сидел бы лучше, как мышь, и не выкуркивал”.
Прокопич отворачивался, гремел ружьецом, обиженно утирался рукавом телогрейки. Молчание тяготило его, и он снова приступал со своим давешним разговором:
— А дело-то просто было, житейско, — нашептывал старик торопливо, боясь, как бы его не прервали. — Бог-то шел мимо, увидал ряба с корову и испужался. Сделал ряба-то маленьким из-за этого, разделил мясо по всем птицам. Часть отдал глухарю, часть — пеструхе, и куроптю, и косачу, и марьюхе… Вот ишь как! А ты-то думал-гадал.
— Да ничего я не думал, — огрызался Гелька. — Больно мне нужно.
Глухари объявились на вечерней зорьке. Они прилетели из глубины темного дремотного леса, сбились шумной ватажкой на краю борка, возле болота, и закружились в свадебном хороводе. Волоча по снежному насту темно-серые крылья, распушив пышные веера хвостов, самцы притопывали вокруг коткающих пеструх, вызывающе взглядывая на них красными глазами. А как самозабвенно пели они любовные серенады! Какие высокие ноты брали и как забывали все на свете, любуясь своими подружками в ржаво-охристых перьях. Сюда бы надо было созвать какого-нибудь древнего поэта Алкмана, который, говорят, любил песни птиц, но Галерий и старик Прокопич, конечно, ни сном ни духом не знали ни забытого поэта, ни его лирики. Они просто бежали на глухариный зов — каждый раз на три шага, — но когда он умолкал, замирали, как снежные ели, ожидая новой запевки. А на краю ельника, у белых узоров от крыльев, они вскинули ружья и стали стрелять по песне.