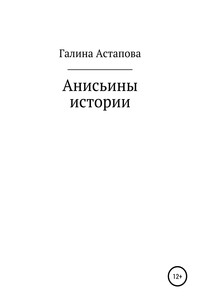Пишите письма | страница 82
— Кто же ведет такие дурацкие разговоры с молодой девушкой? — спросил высокий археолог, я все время забывала, как его зовут, — Трофим? Тимофей? — он откликался и на то, и на то; может, его фамилия была Трофимов.
— Ты прямо как кыргыз, — сказал узбек.
— Ты прямо как узбек, — сказал киргиз.
— Я ительмен с Кировского завода.
— Кировским заводом, — промолвил археолог Витя, — на нашем курсе пьянку называли.
На следующий вечер я застукала торговца кошками в моей палатке за чтением моих неотправленных писем. В ярости вырвала я из его лап свои драгоценные послания.
— Куда ж ты косоуровское письмецо запрятала, лисица? Но на самом деле мне очень жаль, что ты вошла. Я зачитался. Надо же, роман в письмах. А он тебе когда-нибудь на твои признания и излияния отвечал? Вы мне писали, не отпирайтесь, я прочел. Ах да, он ведь их не прочел, это мне повезло. Нет слов, нет слов. Особо я тащился от трамвайного секса.
В одном письме, начинавшемся с описания зеленой воды Урала, я напомнила Студенникову, как однажды оказались мы с ним в переполненном алом трамвае. Предыдущий трамвай сломался, пассажиры его втиснулись в наш, толчея, моя мечта о том, чтобы меня прижали к груди Студенникова транспортные мученики, сломали лед его упорства («вам никогда его не соблазнить…»), вот-вот должна была сбыться; но он вцепился в никелированные поручни так, что побелели суставы, оберегая меня от давки, а себя от меня, держа ничтожную дистанцию меж нами. Так проехали мы два перегона (я любила каждый сустав его рук, его рыжий плащ, я разглядывала складки на сгибе рукава, его ресницы, губы, — какое счастье!), а потом он вышел, а я поехала дальше незнамо куда, очарованная вконец, разочарованная напрочь нежеланием любимого моего обнять меня под благовидным предлогом.
— Раньше, — фыркнул торговец кошками, — я никогда не рассматривал транспорт с такой точки зрения. Трамвайная Камасутра, секс в толпе охреневших пассажиров! Тащиловка! Мечта! Рыжая, ты просто находка!
Выхватив из рук его письма мои, читанные им, опоганенные письма, я бросилась из палатки; неспешно двинулся он за мною. Горел, горел наш первобытнообщинный атавистический костерок, светил в тумане, гасли искры на лету. С разгона вывалила я в огонь всю пачку писем, они горели, шевелились, сопротивлялись, пламя вспыхнуло на минуту так ярко, что отсвет любви моей полыхнул по лицам сидящих вокруг кочевого очага.
Я плакала — впервые слезами ненависти и обиды, а не жалости и любви к себе.