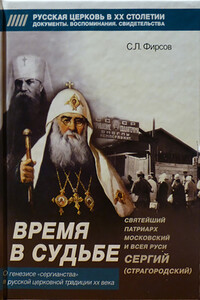Наследие Христа. Что не вошло в Евангелие | страница 23
Итак, Писание не способно исчерпать жизнь души в Боге. Писание ничего не говорит о том, что человек может спастись через чтение Писания. Даже слова Христа: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную" (Ин. 5, 39), потом поясняются Им же — что именно должно открыть исследование Писаний: "они говорят обо Мне". Писание — инструмент ("через них"), свидетель, дверь. Но оправдывает себя этот инструмент, только если человек примет Того, Кто обращается к нему через посредство Книги. "Жизнь души не обнимается Писанием всецело. Эта жизнь благодатна, а благодать душе подает, конечно, не книга Священного Писания, а Дух Святой, ниспосланный Церкви"[30].
Писание есть слово Жениха Невесте. Но разве Жених только слово хочет послать Невесте, не желает ли Он и Себя вверить ей? Писания никогда не были единственным источником, через который Церковь познавала Своего Жениха. Скорее Церковь использовала Писания лишь как способ оправдания своей проповеди, проповеди о своем опыте. Место встречи Жениха с Невестой после Вознесения — это и есть Предание.
Писание лишь говорит о Завете, но осуществляет себя этот Завет не в книге, а в Предании, в таинстве обожения. Чтобы плод Христова служения жил с людьми и в людях, исцеляя их, им нужно посылать Святого Духа. Но Дух не посылается без человеческой просьбы. Собственно, это и есть двойное служение Церкви, две стороны Предания: призывание, мольба о Его пришествии — и Его принятие. По замечательному выражению современного румынского богослова свящ. Димитрия Станилое, "Предание — это эпиклеза в широком смысле"[31] Это моление Церкви: "ниспошли Духа Твоего Святого на нас", и это ответ Бога на эту мольбу.
Писание — это слово Бога к людям. Но религия — это диалог. И диалог не может совершаться лишь в той среде, где слышится лишь один Голос. Поэтому место диалога Бога и человечества — не Библия, но история.
Присутствие же Христа в истории, вне страниц Библии — это и есть Предание.
Только двуединство Писания и Предания может сохранить и объяснить уникальность христианства. Уникальность его в том, что оно не укладывается в религиоведческое деление религий на "пророческие" и "мистические".
Пророческие религии говорят о том, как Бог открылся некогда в уникальной полноте некоторым собеседникам и обещал им еще большую полноту откровения в будущем, на грани истории. Опыт, характерный для основоположников таких традиций, считается уникальным и не требует соучастия в нем последующих поколений верующих. В истории появляется точка такой напряженности Богообщения, к какой не могут приблизиться все остальные моменты времени. Путь пророка неповторим — потому что пророк не сам нашел возвещаемую им Истину, а был позван Ею, настигнут и иногда даже понужден свидетельствовать о Ней.