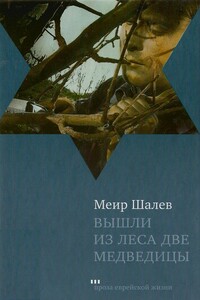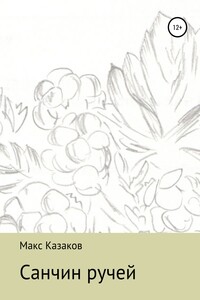Эсав | страница 108
Не прибегая к весам, она всыпала в горшок равное с миндалем количество сахара, добавила немного миндальной воды и поставила на огонь. Потом она взяла Михаэля за руку, и они вместе вышли из кухни, чтобы поразмышлять о том, как растворяется сахар, и вернуться к горшку как раз в надлежащее время. Дудуч точно знает, как вернуться к сахарному раствору буквально за миг до истинного пунто, словно в пустотах ее тела пересыпается отмеряющий время песок. Она погружает в горшок длинную щепку, подымает ее на уровень глаз и изучает застывшую серебряную паутину, оставленную падающей каплей.
Я помню, как она закрывала свой единственный глаз и замирала на неизмеримо малый промежуток времени, подобный исчезающей длительности между ударом по клавише рояля и окончательным замиранием звука, а когда снова открывала глаз, то вперяла его в лицо ребенка, и тот познавал величие наступившего мига как по близкому капанью сахара, так и по этому пронзительному взгляду своей старой тетки.
Каждый из нас в свое время выкрикивал: «Пунто де масапан!» — и вот уже Дудуч всыпает растертый миндаль и гасит огонь. «Абашо! Вниз!» — восклицал ребенок. И вот уже Дудуч с грохотом опускает горшок на пол, становится на колени и начинает энергично перемешивать, и перемешивать, и перемешивать, а потом ставит масапан на мрамор, чтобы как следует остудить.
Через несколько часов, когда смесь окончательно охладилась и застыла, они вместе сформовали из нее маленькие холмики и Михаэлю было позволено воткнуть в вершину каждого из них острый и бледный сосок очищенной миндалины.
ГЛАВА 26
Нам с Яковом исполнилось по семь лет, когда тия Дудуч пришла в поселок. Ее муж и ребенок погибли, а сама она была изнасилована, изувечена, потеряла один глаз и была так потрясена пережитыми страданиями, что утратила речь. Шимона, оставшегося в живых младенца, искалеченный и исковерканный обрубок своей семьи, она несла на руках, чтобы скрыть его тельцем ужасное увечье, нанесенное ей самой. Позади она оставила навсегда разрушенную сыроварню, четыре расколотых куклы матрешки, обезумевшую мать, которая не переставая стонала: «Мы Абарбанели…» — и две свежие могилы: своего мужа Лиягу и своего первенца Бхора Ихезкиеля.
Когда мы покинули Иерусалим, мать оставила свою сыроварню невестке, и Дудуч внезапно обнаружила себя в окружении целой армии загадочных тазов, бурдюков и бидонов, ни с одним из которых не умела управляться и каждый из которых напоминал ей любимую невестку. Она еще всхлипывала, когда во дворе появилась незнакомая молодая женщина с прелестным лицом в обрамлении строгого платка православной монахини. Та подошла к Дудуч так свободно, будто знала ее всю жизнь, и жестом позвала за собой.