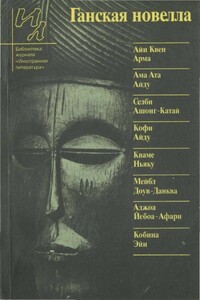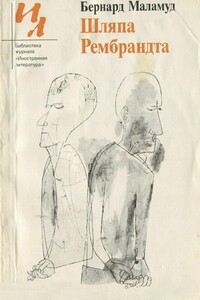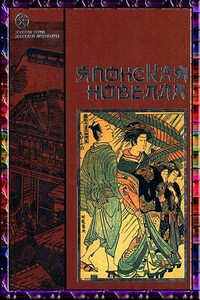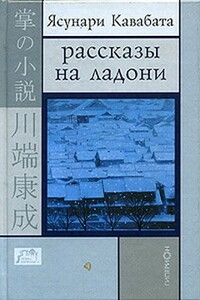Сон женщины; Письмо о родинке; Отраженная луна; Птицы и звери | страница 34
— Опять прозевал! Разведи-ка огонь в жаровне, — с виноватым видом, но спокойно приказал он служанке.
— Может, лучше позволить им умереть собственной смертью? — нерешительно предложила служанка.
— Вспомни прежних корольков — ведь им без особого труда можно было помочь, — словно очнувшись, возразил он.
— Сколько ни помогай, долго они не протянут. Вот и в прошлый раз, когда у них скрючились лапки, я подумала: уж лучше побыстрее бы они испустили дух.
— Но ведь можно помочь!
— Проявите милосердие: дайте им умереть!
— Ты так считаешь? — задумчиво произнес он и вдруг ощутил такую усталость и опустошенность, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Он молча поднялся на второй этаж к себе в кабинет, поставил клетку на освещенный солнцем подоконник и рассеянно наблюдал за агонией корольков.
Про себя он молился, чтобы теплые солнечные лучи вернули их к жизни, но внезапное равнодушие ко всему на свете, в том числе и к себе, охватило его: он уже не чувствовал достаточно сил, чтобы, как прежде, взяться за спасение этих птиц.
Когда корольки испустили дух, он вытащил их еще теплые тельца из клетки, некоторое время подержал на ладони, потом снова сунул в клетку и запер в стенной шкаф. Затем сразу же сошел вниз и как ни в чем не бывало сообщил служанке:
— Издохли.
Корольки — птички маленькие, слабые и легко могут погибнуть, но ведь ласточка, крапивник, черная синица тоже не силачи в птичьем мире, а ведь жили у него в полном здравии.
В доме, где погиб ткачик, трудно, должно быть, жить другим ткачихам. Точно так же и с корольками. И в том, что он дважды явился виновником гибели корольков, ему виделся перст судьбы!
— Конец, больше не буду держать корольков, — с усмешкой сказал он служанке, улегся на циновку в чайной комнате и стал возиться со щенками, которые забавно дергали его за волосы. Потом из шестнадцати или семнадцати клеток с птицами, стоявших перед ним, выбрал клетку с ошейниковой совкой и прихватил ее с собой в кабинет.
Стоило этой ошейниковой совке завидеть его, как она злобно округляла глаза, начинала крутить головкой и сердито щелкать клювом. Совка не притрагивалась к корму, если он глядел в ее сторону. Когда он подносил кусочек мяса, она хватала его, но так и держала в клюве, не проглатывая. Однажды он всю ночь напролет пытался ее переупрямить. Пока он находился рядом, совка оставалась неподвижной и даже не глядела на корм. Тем не менее голод давал себя знать, и ближе к рассвету она стала бочком придвигаться по жердочке к корму. Но стоило ему поглядеть на нее, как птица, только что с на диво хитрым и коварным видом — хохолок прижат к голове, глазки сузились! — тянувшаяся к корму, мгновенно поднимала головку, злобно щелкала клювом и как ни в чем не бывало отодвигалась. Он отворачивался и сразу же слышал, как совка снова придвигалась по жердочке к корму. И так продолжалось всю ночь, пока сорокопут звонким радостным свистом не возвестил наступление утра.