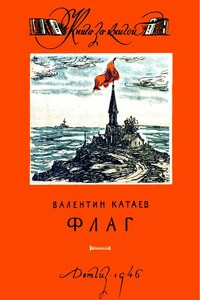Трава забвенья | страница 46
"А средина "Атлантиды", столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, брильянтов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу..."
Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своею рукой, и то громадное наслаждение!
Еще до "Господина из Сан-Франциско" Бунин написал потрясающей силы антиколониальный рассказ - тоже полностью "иностранный" - "Братья", трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог бы даже показаться переводным, написанным, например, Редьярдом Киплингом, если бы - опять же! - не удивительный русский язык и не бунинская неповторимая пластика, доводящая его описания до стереоскопической объемности и точности, - свойство, которым не мог похвастаться ни один современный Бунину мировой писатель.
* * *
- Почему вас удивляет, что я написал такие "не русские" рассказы? Я не давал клятвы всю жизнь описывать только Россию, изображать лишь наш, русский быт. У каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая, общечеловеческая душа; для него нет запретной темы; все сущее на земле есть предмет искусства. Общая душа, общая душа. "Счастлив я, - вдруг проговорил он, понизив голос до таинственного бормотания, счастлив я, что моя душа, Виргилий, не моя и не твоя". Понимаете: не моя и не твоя. А общая. В этом смысле я, если хотите, интернационален. Может быть, даже сверхнационален. Главное же, что я здесь, в "Господине из Сан-Франциско", развил, - это в высшей степени свойственный всякой мировой душе симфонизм, то есть не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой - словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в "Войне и мире": смерть Болконского и прочее.