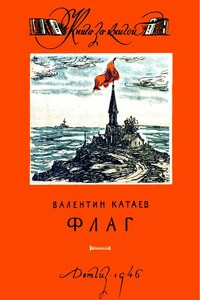Трава забвенья | страница 27
Строки "Трубят рога в полях далеких; звенит их медный перелив" вызывали в воображении "Графа Нулина".
И все же это было оригинальное, чисто бунинское:
"...И в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит Осень на крыльцо..."
Затем - великолепное завершение:
"...И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем и серебром. А в ночь, меж белых их разводов, взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит Стожар - в тот час, когда среди молчанья морозный светится пожар, Расцвет Полярного Сиянья!"
Было нечто многозначительное в том, что слово "Осень" писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда это мне чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным. Но все равно - стихи были прекрасны.
В первых своих книгах Бунин еще находился в плену традиционно-народнических представлений о своей родине как о стране нищей, смиренной, убогой.
"Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней, рабской нищеты. Но этот крест, но этот ковшик белый... Смиренные, родимые черты!"
Его еще тогда умиляла нищая Россия, как умиляла она и другого поэта, его современника:
"Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые как слезы первые любви!"
Теперь же, в последней книжке Бунина, изданной в России, в десятом томе собрания его сочинений еще неизвестного у нас петроградского издательства "Парус", 1918 год, я прочел стихотворение "Архистратиг", где Русь представлялась Бунину уже совсем, совсем другой.
"Архистратиг средневековый, написанный века тому назад на церковке одноголовой, был тонконог, весь в стали и крылат... Кто знал его? Но вот совсем недавно открыт и он, по прихоти тщеславной столичных мод, - в журнале дорогом изображен на диво, и о нем теперь толкуют мистики, эстеты, богоискатели, девицы и поэты. Их сытые, болтливые уста пророчат Руси быть архистратигом, кощунствуют о рубище Христа и умиляются - по книгам, - как Русь смиренна и проста".
Эти стихи Бунин написал, кажется, в шестнадцатом году, пророчески ощущая приближение страшной для него революции, с которой не мог примириться до самой своей смерти.
Потом, уже в эмиграции, в конце жизни, Бунин вычеркнул мистиков, богоискателей, поэтов, эстетов; вычеркнул "их сытые, болтливые уста". Но я не признаю этой самоцензуры. Что написано - написано. Слово не воробей.
* * *
Так некогда передо мной открылся новый Бунин, как бы выходец из потустороннего древнерусского мира - жестокого, фантастического, ни на что не похожего и вместе с тем глубоко родного, национального, - мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию, со всем ее чудовищным смешением языческого и христианского, древнеславянского и угро-финского, варяжского, византийского, татарского - жестокого, кровавого, гениально-самобытного! - царство, нисколько не похожее на ту "древнюю Русь", которую мы привыкли себе представлять, читая в младших классах школы жалкий, тоненький учебник русской истории.