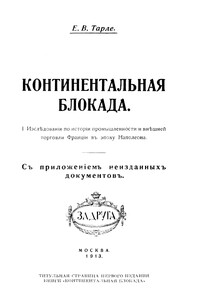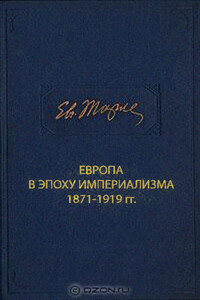Сочинения. Том 1 | страница 45
и ограничиться лишь приказанием, чтобы чиновники-управители лучше обходились с крестьянами на тех венгерских землях, которые принадлежали ему лично как Grundherr’y. Но этим дело не кончилось. В 1547 г. император предложил [57] рейхстагу возвратить право свободного перехода крестьянам, ссылаясь на то, что все бедствия и поражения, которые понесла в последнее время страна, посланы, по его мнению, самим богом в наказание за угнетение земледельческого сословия. Рейхстаг принял предложение императора, но исполнено оно не было, хотя Фердинанд, внося его на обсуждение, был, очевидно, уверен в том, что закон войдет в силу тотчас по своем утверждении; такое впечатление производит тщательная разработанность этого декрета. К приведенной 26-й статье его прибавлены были еще три; одна из них [58] установляла порядок, которого должен был держаться крестьянин, желающий перейти из одного поместья в другое; он был обязан известить сначала своего будущего хозяина, а затем комитатского судью; двор и дом выселяющегося должны остаться собственностью господина. Следующие два параграфа назначили штраф в 200 флоринов в случае если кто-либо силой станет задерживать желающего выселиться, и приравнивали даже угрозы к насильственному задержанию, полагая для провинившегося в том землевладельца то же наказание, как и для нарушившего предыдущую статью, т. е. штраф в 200 флоринов. Но, как я уже заметил, эти постановления не получили никогда действительной силы и остались таким же пустым звуком, как и выраженное императором за несколько лет перед тем желание прийти на помощь своим несчастным подданным. Вообще Габсбурги всегда желали облегчить участь венгерского крестьянства, но, но мнению Бидермана, не решались произвести насильственного освобождения крестьян, потому что полагали, что дворянство в благодарность за то будет уступчивее по отношению к разным мероприятиям верховной власти, касающимся так или иначе конституции страны. Конечно, никакой благодарности дворяне никогда за это не выказали, а крестьянами завладели понемногу так, что императоры позже, в XVII в., уже не могли иметь к ним прямого касательства, и, по словам историка, «солнце королевской милости никогда уже не освещало крестьянина прямо, но только через призму дворянской скорлупы» [59]. Во второй половине XVII столетия хотел также помочь крестьянству и Леопольд, но к концу правления отступил от своего намерения, не желая вооружать против себя поместное сословие. Для того чтобы получить правильное представление об истинном положении венгерского крестьянства, Леопольд пользовался военными комиссарами (Kriegskommissäre); но даже он, император Леопольд, человек, проведший всю свою жизнь в борьбе с венгерской знатью, не решился на более действенное участие в судьбах сельского населения, чем только рассылка по Венгрии комиссаров и собирание сведений о положении крестьян. Вообще все бесконечные перипетии борьбы императорской власти с венгерскими магнатами вплоть до самого Сатмарского мира в 1711 г. не имели ровно никакого благотворного влияния на судьбу крестьянства
Книги, похожие на Сочинения. Том 1