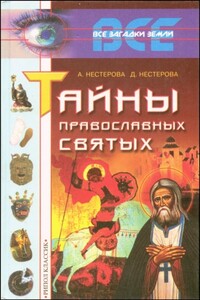Град Пустыня | страница 10
Как здесь не вспомнить «Жизнеописание Плотина» Порфирия, в первом же предложении которого говорится о том, что Плотин стыдился собственной телесности.[19]Контраст очевиден. Дуалисты языческого или околохристианского толка гнушались телесного, совершенство же Антония выражалось, помимо прочего, в том, что он в течение пятидесяти последующих лет оставался совершенно здоровым и даже не потерял ни единого зуба, хотя и стер зубы до самых десен.[20] Дуализм, рассматривающий материю в качестве злого начала, был характерен для большинства аскетических учений и являлся источником соблазна для многих христиан. Мы будем постоянно сталкиваться с теми или иными его проявлениями. Так, примерно в то же самое время в Леонтополе, находившемся в Дельте, Иеракс объявляет брак ветхозаветным установлением и отрицает телесное воскрешение.[21] И, все же, монашествующие даже в своих аскетических крайностях, по большей части, придерживались совершенно иных взглядов.
Заметьте, также, что совершенство Антония рассматривается здесь как следствие возврата к естественному состоянию. Этот момент характерен для всей православной аскетики, видящей свою цель в возврате к тому состоянию, в котором Адам находился до грехопадения. Оно считается естественным состоянием человека, в то время как падшее его состояние объявляется παρά φύσιν, то есть, неестественным. Для того, чтобы понять греков, нам, уроженцам Запада, пришлось бы пересмотреть свои идеи, унаследованные нами от августинианства, с которым, впрочем, не согласился бы и сам Августин.[22] Заметим попутно, что вкравшийся в текст авторизованной (Α. V. — Аvthorized Version = King James Version, 1611 — прим. пер.) и исправленной (R. V. — Revised Version, 1881 прим. пер.) версий ошибочный перевод ψυχικός («душевный») как «естественный» (natural) в 1 Кор. 15, 4446, до некоторой степени, мешает пониманию нами того, что использование святым апостолом Павлом термина φύσις («естество») полностью соответствует его пониманию позднейшей святоотеческой традицией. Лишь единожды (Еф. 2, 3) он использует его в явно уничижительном смысле («…и бехом естеством чада гнева» — τέκνα φύσει οργής).
Мы можем задаться вопросом, насколько соответствует сие житие Антония его реальной жизни, насколько идеализировал его занимавшийся неустанными трудами епископ, желавший представить идеальный образ монаха, ведущего созерцательную жизнь. С одной стороны, это не так уж и важно, поскольку в течение ряда столетий житие это служило для монашествующих примером подлинного отшельничества. С другой стороны, нам следует помнить о том, что Афанасий описывает в нем жизнь человека, известного не только ему самому, но и части его читателей. Таким образом, мы вправе предположить, что рассказ об Антонии не противоречит тому, что было известно о нем его современникам.