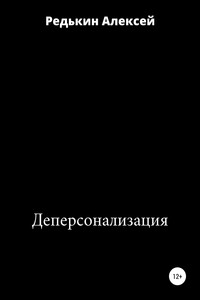Вначале был звук | страница 50
Мимо проходит мама с дочкой лет восьми. Дочка, с восхищением показывая на меня пальцем: «Мама, мама! Повар пошел!» Мама: «Люсенька, это не повар, а известный певец». Дочка с удивлением: «А разве он поет?»
Мама еще помнит. Пока еще.
Снова звонок. «Извините, это опять из "Солнечной правды". Может, хотя бы рецепт? Специально для нашей газеты!»
Хорошо. Вот вам рецепт. Возьмите курицу. Намажьте ее маслом. И засуньте себе — знаете куда?
Памяти Миши Генделева
Поэзия есть музыка слов. И точнее не скажешь. И если мы не очень хорошо понимаем, что такое музыка, то с музыкой слов еще сложнее. Те, кто полагают, что стихи — это слова, уложенные в рифму и размер, сильно ошибаются. Рифмованные заголовки «Комсомольской правды» и рекламные слоганы имеют к стихам такое же отношение, как вибратор к космической ракете — в общем похожа форма. Мой друг Миша Генделев однажды сказал, что стихи пишутся вообще не для людей. Нет, не возбраняется, конечно, читать, если кому интересно.
Подозреваю, что он прав. Поэзия — абсолютная вещь в себе. Я не помню, чтобы настоящий поэт даже попытался написать стихи на чью-то музыку — никто не имеет права задавать твоему сердцу ритм. (Бывало, что хорошие стихи пытались положить на музыку — это другое. Тоже, кстати, получается черт знает что.) Поэты слышат музыку внутри своего стиха, она и делает стих стихом, выстраивая единственно возможные слова в единственно возможный порядок. Поэтому поэты всегда так странно читают свои стихи — совсем не так, как разговаривают. Первомузыка стиха распирает их изнутри, они слышат ее и подсознательно пытаются дать услышать нам.
Миша писал очень непростые стихи (случались, правда, и простые, позитивненькие: «Да здравствует мыло душистое и веревка пушистая!») Я, впервые столкнувшись с ними много лет назад, не сразу сумел войти в его пространство, густо заполненное скрытыми созвучиями, казалось бы, случайными ритмами и их неровными отзвуками, неожиданными ассоциациями. В случайности обнаружился железный порядок — единственно возможный. Миша выкладывал свои стихи на бумагу в виде бабочек — я ни у кого не видел подобной строфы. И уже не увижу — это будет пародия на Генделева. Ловил их в одному ему ведомом саду, расправлял им крылья, осторожно сажал на лист. Каждую эту бабочку можно при желании утрамбовать в общепринятый брикетик четверостишия — ни одно слово не вывалится. Казалось бы. Нет, ребята — не получится — музыка стиха не позволит. Не полетит. И не почувствуем мы запаха пустыни и раскаленной на солнце брони, и черно-белого, в мокром снегу, Ленинграда пятидесятых, и не скривимся от вкуса железных апельсинов в садах Аллаха.