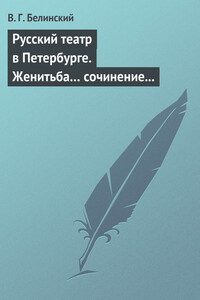Для читателя-современника | страница 54
Подхватив эту особенность, некоторые критики из модной сейчас в США символистской школы, особенно Карлос Бэйкер, непомерно и неправомерно раздувают значение образов у Хемингуэя, возводя их до аллегорий и символов. Так, например, "Прощай, оружие!" представляется Бэйкеру лишь как раскрытие образов горы - всего возвышенного - и равнины - всего низменного. Точно так же в "За рекой, в тени деревьев" он придает какое-то фаллическое значение причальным столбам на каналах. В "Старике и море" такие критики ищут христианскую символику. Однако Хемингуэй всюду остается в границах простого, реального образа, а все эти толкования можно оставить на совести толкователей. Но когда Хемингуэю это нужно, он в своих целях заставляет играть и пейзаж, функционально окрашивая его, например, в "Альпийской идиллии".
На фоне деловитого и сдержанного повествования Хемингуэя особенно выразительно звучат в ответственных местах короткие и прямые удары не шпаги, а пера. Хемингуэю нужно дать ощущение смерти. И вот в рассказе "Мой старик" мальчик видит разбившегося отца, "и он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый". В "Прощай, оружие!" то же ощущение передано еще сдержаннее. Убитый Аймо "выглядел очень мертвым". Совсем в другом плане он скупо пользуется звукописью в главе 16-й "И восходит солнце", рассказывая, как уволакивают быка с арены.
Язык Хемингуэя переменчив. То это авторский выверенный, скупой лаконизм художника, то довольно небрежная болтовня фельетониста, или фактографа "Зеленых холмов Африки", или просто интервьюируемой знаменитости. То сухой, бескрасочный, лишенный национального своеобразия язык пустых людей его поколения, то характерная речь тех, кого он хочет выделить: блестящие, быстрые реплики Каркова, велеречивая жвачка Фернандо, ругань Аугустина, стилизация под офицерскую речь в миниатюрах "В наше время" и в "Снегах Килиманджаро".
Характерную речь особенно охотно применяет Хемингуэй, когда издевается или смеется. Он начинал с ребячливого наигранного зубоскальства своих школьных фельетонов в духе Ринга Ларднера, и отголосок этого сохранился в мальчишеской важности "Трехдневной непогоды", в фигуре пьянчужки Педуцци ("Не в сезон"), в таких фельетонах, как "Гости на Уайтхед-стрит", в "Вешних водах", в болтовне об "Улиссе", будто бы написанном Гомером, в некоторых издевательских интервью или в не менее издевательском высмеивании сенатора Маккарти. Чувствуются эти отголоски и в той обязательной доле фарсового, которой Хемингуэй совсем по-шекспировски оттеняет страшное (труп - и альпийская идиллия), и в обязательной порции языковой пародии в таких рассказах, как "Ночь перед боем" или "Разоблачение".