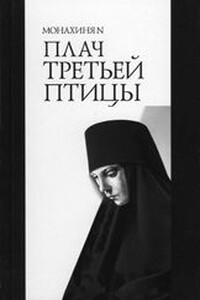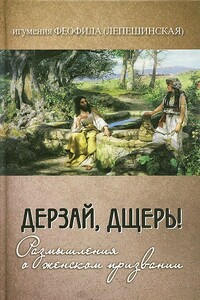Рифмуется с радостью | страница 92
Художник К. Коровин рос в атмосфере вольномыслия: гости отца, студенты Московского университета, своими спорами о Боге, конституции, тирании заражали ребенка «странным беспокойством»; зато в доме бабушки было совсем другое настроение: никто не кричал, не чертыхался, не бил рюмки с вином; гости были приветливы, говорили тихо, повсюду чисто, прибрано, перед сном мальчик вместе с бабушкой молился, стоя на коленях в постели.
Ясность, простота и бесконечная сострадательная любовь бабушки Акулины Ивановны озарила детство А.М. Горького (1868 – 1936); надо полагать, сияние образа совестливой, верующей и потому, несмотря на обстоятельства жизни, счастливой русской старухи, воспрепятствовало ему сделаться окончательным безбожником.
Писатель Борис Васильев, участник войны, выходя из окружения, то и дело с благодарностью вспоминал отца, когда-то объяснившего ему, как не заблудиться в лесу, как согреться, как развести бездымный костер, какие растения годятся в пищу. Кроме того, отец научил без предубеждения относиться к любой еде – и сын смог оценить полезность разных кореньев и ягод, бодрящие свойства соленого калмыцкого чая и нежный вкус жаренного на костре ужа.
Те, кто родился до начала 1930-х годов, еще помнили семейные молитвы, празднования Пасхи, Рождества, дня Ангела, церковные службы; композитор Г.В. Свиридов (1915 – 1998) в ряду «золотых детских воспоминаний» числил дни в Фатеже, в доме местного священника, где царила патриархальная размеренность, церемониальность быта: «без молитвы не садились за стол, всегда пахло свежим чаем… сад небольшой рядом, жужжали шмели, пчелы, всегда малина, мед на столе…это просто какой-то рай был!».
А позже уже провал; пишет, к примеру, Леонид Бородин о своей вполне благополучной семье и бабушке, от которой воспринял первые знания и любовь к книгам: «…мы существовали с ней вдвоем в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа все же ущербного, ибо без высшей явности духа – Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведано не было, и эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной».
Когда ребенок, ощутив свою автономность, сражается за свободу собственного «я», происходит это, очевидно, от инстинктивного чувства ответственности: что-то в этом мире только мое, зависит от меня, я обязан совершить, не мешайте. И дерзость переходного возраста можно объяснить также напряженным поиском своего: идеалов, убеждений, за которые стоит бороться и страдать.