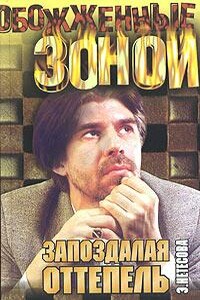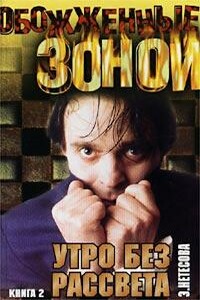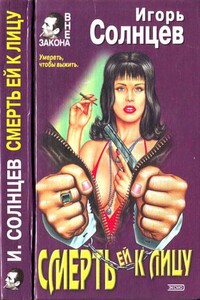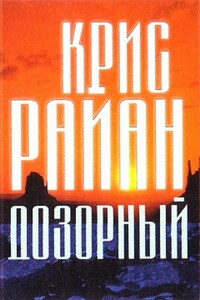Закон - тайга | страница 44
Выждав с час, вернулся в барак незаметно. Условники спали. А утром проснулся с мушкой на щеке. Никто не стал слушать его доводы. Вместе с тряпьем, по слову бугра, выкинули Никитку из барака вон. И ушел мужик на чердак. Примостил тюфяк у печной трубы. Лег средь плесени и сыри. И впервые за все годы заключения неслышно плакал в темноту изболелым сердцем.
— За что опаскудили, зверюги? Теперь никуда рожу не выставишь. Даже домой с такой отметиной не покажешься. Уж на что лидеры мразь, а и те меня прогнали, едва на рожу глянули. Куда ж теперь деваться? Всякая тварь в морду харкнет, - лил мужик слезы в сырой тюфяк.
Его хватились на другой день. Кончилась пурга. Пора на работу. А Никитка, видать, заспал рассвет.
Нашли его сявки, прошарившие все село. Кто-то случайно увидел открытую чердачную дверь.
Никита висел в петле. Давно умер. Холодный, бледный, с вывалившимся синим языком, он словно скорчил рожу напоследок всем фартовым, бугру, всем своим бедам, самой судьбе, так безжалостно подшутившей над ним.
Вместо записок и упреков живым осталась на щеке небольшая черная точка. Она стала последней каплей терпения, страдания, стыда, которую не заглушили, не вытравили годы заключения.
Когда Никиту вынесли с чердака, участковый, едва глянув на него, понял все. И в этот же день под стражу был взят бугор Трудового.
Знал Дегтярев: без Тестя тут не обошлось. Только с его веления ставятся такие отметины. И эта послужила причиной самоубийства.
Тесть знал, какое обвинение предъявят ему, знал, какой срок светит. Небольшой, по меркам воров. Бесило лишь одно: в зоне его, фартового, администрация может приравнять к мокрушникам, которым он сам себя никогда не считал.
Его вывели из барака днем, когда в селе нельзя было встретить ни одного условника, кроме сявки, бывшего на побегушках у бугра.
Все остальные были на пахоте, в тайге. А потому никто не видел, как Тестя под усиленной охраной посадили в «вороною!, приезжавший в экстренных случаях, и тот, чихнув, помчался, набирая скорость, увозя бугра от близкой, но так и не увиденной свободы, от фартовых, кентов, от уюта, который неимоверными трудами создали ему условники.
Наручники сдавили так, что бугор кусал губы. А тут еще участковый уселся напротив. Такое говорил, что, будь руки свободны, размазал бы...
— Я тебя, мокрожопого трутня, не столько на срок, сколько на страдания постараюсь натянуть; ни сил, ни жизни не пожалею, чтоб узнать, как сделают из тебя пидера-пассива, козла вонючего! Такого мужика загробил, гад! Я из тебя выбью, кто муху ставил. Он у меня в дежурке не только здоровье, душу оставит. Всю твою кодлу загоню в Певек. На особый режим. Пусть их там медведям скормят. На другое не годны. Ты еще не раз Никитке позавидуешь. Я отплачу за него. Не был он сукой, не фискалил, никого не заложил. Человеком жил. И даже я уважал его. Ну а кентов твоих паскудных в Певек к пацанам кину, пусть оприходуют в обиженники. И хрен чего докажете. За подлость подлостью получите. За все!